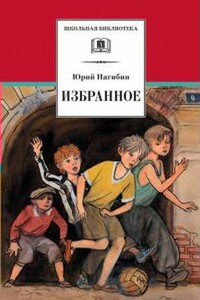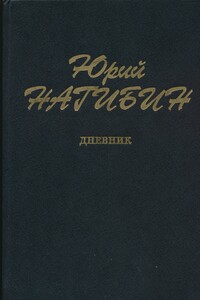В продолжение нашей беседы паренек рассеянно передвигал шахматные фигурки по доске. И сейчас белая и черная армии выстроились в полном боевом порядке по обеим сторонам ратного поля. Он выправил шеренгу пешек и вдруг сказал с задорной решимостью:
— Реванш?
На этот раз мне хотелось выиграть, и выиграть по-настоящему. Это был мой долг перед ним. Но, видно, я давно уже не играл в силу второй категории, а мой противник боролся цепко, упрямо, с какой-то неожиданной дерзкой выдумкой. С каждым ходом партия становилась для меня все более трудной. У нас сохранялось полное материальное равенство, но его слоны, кони, ладьи свободно перемещались по всему полю, моему же войску было тесно, как персам в Фермопилах. Меня спас цейтнот: он дал о себе знать тоненьким, как звук флейты, гудком, нивесть откуда прилетевшим на берег реки.
Мой противник вздрогнул, с обидой глянул на ручные часы, с сожалением — на доску.
— А красивая партия получалась! — вздохнул он и поднялся.
Я не заметил, как очутился у него в руке длинный пастушеский кнут. Раскрутив его над головой, он резким, привычным движением отвел руку назад — короткий, сухой выстрел расшевелил отдыхавшее стадо. Шумное дыхание, тяжелый переступ копыт заполнили простор.
Подошел подпасок и, став на колени, стал заворачивать в клеенку блокноты, книжки и шахматную доску с фигурами.
А длинный кнут в руках моего знакомца свистел, взрывался и шипел, выравнивая стадо, и наконец, раскатившись дробным треском, похожим на весенний гром, дал стаду приказ выступать в поход.
Второй пастух залетинской фермы помахал мне рукой и двинулся вслед за стадом…
I
Август пришел душными грозами, слепящим светом зарниц, глухими, медленными раскатами грома, точно кто-то неутомимо колотил в гигантскую бочку. Затем грозы ушли на север. С безоблачного, подернутого дымкой неба солнце изливало всю скопленную в ненастье силу. Несколько дней земля парилась, горячий, банный пар стоял над полями, словно неурочный туман, затем марево рассеялось и потекли сухо-жаркие августовские дни.
Колосья рано налились густым золотом, затем побронзовели, достигли полной спелости. Рожь была такая густая, что казалось — руки не просунешь между колосьями. С ней соперничали усатые ячмени, клонящаяся долу от тяжести зерна пшеница. Земля не была разборчива в своей щедрости; все, что росло из нее, достигало невиданных размеров. Розовым шиповником, голубыми колокольцами, снежным белоголовником пенились яруги и овражки, и нельзя было узнать их действительной глубины — дно исчезло под рослыми травами и цветами. Придорожные кюветы скрылись под лопухами — каждый лист со слоновое ухо; бурьян и чертополох переросли можжевельник и уж мерились ростом с бузиной.
И вот однажды, выйдя ранним утром на крыльцо, Кретов обнаружил, что его небольшой дворик зарос сорняком, как заброшенный погост. От маленького колодца остался виден лишь один вороток, плетень сгинул под лопухами, длинные, жадные травы тянулись по стенам крытого двора, стремясь поглотить и его…
«Эх, житье бобылье! — усмехнулся про себя Кретов. — Не заметишь, как и вовсе потонешь в бурьяне!»
Кретов поплевал на ладони, испытывая тот приятный азарт, который всегда вызывала в нем ручная работа, но тут вспомнил, что у него нет косы. Косу можно было занять у соседей, но Кретов любил каждое дело делать основательно, поэтому он справил себе собственную косу. Достав у кузнеца хороший нож, он старательно отбил его оселком, наточил до бритвенной остроты и вместе с грабками приделал к гладкой, удобной ручке.
На следующий день Кретов вышел по утренней росе. Примерившись взглядом к могучей поросли в серебристом бисере, он пошел выписывать ровные полукружья. Он брал низко, по самый корень, но ни разу не смазал, не зарыл косу и с удовольствием обнаружил, что не забыл старую науку.
Бурьян был тугим и крепким, как дерево. Коса со свистом перерезала неподатливые, словно резиновые, стебли, ложившиеся широким веером у ног косаря; капли росы сверкали на голубоватом ноже. Кретов напористо врубался в чащу, ступая по трубчатым упругим остям.