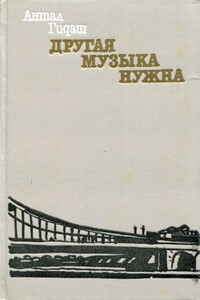— Холодно ему, — прозвучал короткий ответ.
— Ору, — продолжал Фицек, но уже совсем тихо. — Ору… — шептал он.
Фицек втянул голову в воротник пальто. Наступила тишина.
Отто пришел из школы. Увидел съежившегося отца и прошел в самый дальний угол подвала, где лежал Банди и смотрел в потолок. Жена Фицека безмолвно помешивала клецки. Затем она сняла кастрюлю со спиртовки, поставила на стол тарелки.
— Идите. Обед готов.
Ребята сгрудились вокруг кастрюли. Ели, не выпуская тарелки из рук.
Фицек продолжал сидеть неподвижно.
— Не ломай комедии, садись ешь.
— Ору… — бормотал Фицек тихо и не шевелился. — Это заслужил я? Это заслужили мои дети? Замерзают здесь, в картофельном подвале… Ору…
«Снова завел, — подумала жена. — Ладно, подождем, авось перебесится».
Фицек некоторое время сидел безмолвно, только изредка вздыхал и шептал:
— Ору… Ору… — Затем вдруг заговорил изменившимся голосом: — Раздадим ребят!
Сначала жена Фицека решила, что это второе действие комедии, но вскоре убедилась, что сейчас речь идет не о господах Трепше и Рапсе, а о том, что им еще несколько недель придется жить в подвале и «без ребят легче будет думать».
…Одного ребенка согласился взять к себе маляр Рожа. Жена и понятия не имела, как и где познакомился с ним Фицек. Второй ребенок достался толстому бездетному сапожнику Покаи, а третий попал к Анталу Франку.
Господин Фицек взял Пишту за руку и не преминул тут же сымпровизировать трогательную сцену.
— Ну, простись с матерью, простись с бедняжкой… — произнес он дрожащим голосом.
Пишта подошел к матери. Он представления не имел о том, как нужно прощаться и что говорить. До сих пор их еще никогда не «раздавали».
Фицек ждал, дергая ребенка за руку, но тот молчал еще упорней.
— Я тебе сказал: простись с матерью, — зашипел г-н Фицек. — А вот я тебя за ухо!
Мальчик смотрел с ужасом. Рот его искривился от страха.
— Мама… — прошептал он.
— Отвяжись от него, — вспыхнула мать. — Что тебе нужно от этого несчастного ребенка, какого черта еще прощаться?
— Пусть прощается, если я ему сказал! — злился г-н Фицек. — Пусть прощается со своей матерью!
Мать хотела облегчить положение несчастного малыша: она нагнулась к нему, заскорузлыми пальцами погладила лицо дрожащего мальчугана и ласково шепнула ему на ухо:
— Ступай, Пишта, иди, сынок, и веди себя хорошо…
Но г-на Фицека это не удовлетворило. Он схватил малыша и дернул его.
— Не можешь проститься с матерью… с родной матерью, которая пеленала тебя, кормила, ходила за тобой… страдала из-за тебя, ночи не спала! Так как же ты простишься с отцом? Нечего сказать, завидная будет у меня доля, когда вы вырастете… Даже плюнуть на меня не захотите, даже… И для этого я стараюсь! Вас бы только в канаве сгноить!
Пишта со страху наделал в штаны. Фицек повел его за руку, чтобы «раздать» маляру Роже.
Мартона отвели к Анталу Франку. Елена, жена Франка, уже ждала его, сняла с мальчика пальто.
— Будь как дома, Мартон, — сказала она.
Днем мальчик чувствовал себя в новой обстановке еще довольно сносно, но вечером, несмотря на то что память о мучительном прощании, которое ему тоже пришлось пережить, была еще свежей, — вечером он все-таки болезненно ощутил чужую обстановку. Ему дали большую чашку кофе, булку: но кофе пить ему не хотелось, булку он тоже грыз кое-как и все думал об одном: «Что сейчас мама делает, где сейчас мама?» Когда к нему обращались, он не отвечал ни слова, только улыбался. Стало легче, когда его уложили спать в одну кровать с Йошкой. Но он не мог заснуть, потому что потушили лампу, а лампадки не зажгли — было темно, не так, как дома. Мартону стало страшно, он дрожал под одеялом, хотя в комнате было натоплено.
Чтобы не разбудить других, тихо заговорил Йошка:
— Мартон, ты не спишь?
— Нет, — шепнул мальчик.
— Почему?
— Не знаю.
— Спи, ведь ты со мной. Возьми меня за руку.
Мартон веял друга за руку, сон пришел неожиданно. Через минуту мальчик спал с открытым ртом.
…Во сне сначала в дверь вошел газовый фонарь, поклонился и сказал: «Теперь я каждую ночь буду стоять не на улице, а здесь». Потом все снова жили в мастерской на улице Мурани, этажерка стояла на месте, и кровать была над головой, когда они смотрели вверх, лежа на тюфяке.