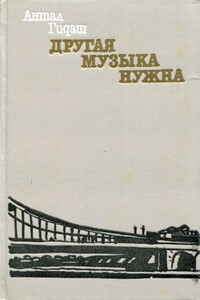— А, оставь меня в покое с расценками и Кобраком! Беда не в этом, а в том, что ты живешь не тихой каждодневной работой. Лезешь на рожон. Разве не лучше было сохранить мастерскую на улице Мурани с несколькими подмастерьями, — сам тоже работал бы: это самое главное. Воспитывал бы своих детей. Или взялся бы за филиал Кобрака.
— Я и подумать не успел: этот человек так неожиданно пришел и ушел…
— Оставь, Фери, не так это было. Тебе предложили, — я тоже была тогда в мастерской: «Господин Фицек, возьмитесь вести филиал Кобрака». А ты что? Взял сигару, закурил. «Видите ли, почтеннейший, то, что умеет Кобрак, могу и я сделать… Не возьмусь…» — Жена Фицека приставила ко рту вместо сигары деревянную ложку и, гордо подняв голову, передразнила Фицека: — «Я, почтеннейший, такой же самостоятельный ремесленник, как Кобрак. Пусть он знает, что я не буду ничьим слугой!..» Затем ты стал издеваться, что, дескать, не печальтесь, почтеннейший, кто-нибудь из подмастерьев возьмется за это, вот хоть Рейнгард. «Эй, господин Рейнгард!» — крикнул ты. Рейнгард встал на нарах. «Чего изволите, господин Фицек?» — «Возьмитесь за филиал Кобрака! — И ты засмеялся. — Он, почтеннейший, сейчас женился, получил в приданое пятьсот форинтов. Если он сошел с ума, так, может, и возьмется». Ну, и чем же кончилось? Рейнгард взялся, забастовка прекратилась, филиал Кобрака открылся.
На лице Фицека ясно видно было беспредельное страдание.
— Не мучай меня, Берта, не мучай! Это бы еще не беда, только расценки… Не ругайся со мной. Не надо нам ругаться, как цыганам. Поняла? Сохраним наш родительский авторитет перед детьми.
Эти слова взорвали жену Фицека.
— Хорошенький у меня авторитет, когда ребята только и слышат: «глухая девка», «глухая шлюха» и еще бог знает что. Третьего дня я готова была удрать от тебя на край света. Родительский авторитет? Его уже давно нет. Смотри, чтобы дети не возненавидели тебя за все это.
Господин Фицек закусил сигару, лицо его посинело.
— Ты, глухая, ты… уж и ребят против меня настраиваешь?
— Я их настраиваю? Ты сам их настраиваешь. Думаешь, дети оставят свою мать?..
— Значит, ты их подзуживаешь против отца? Что?.. Против отца, который на части разрывается, чтоб в люди их вывести, чтобы они не сдохли в мусорной яме… Это я заслужил? Язык бы вырвать тебе!
— Вырвать? Легче тебе от этого не станет… Первого августа платить за квартиру, первого июля Острайхер…
— Ты, глухая шлюха! Ведь радуешься, что не вышло по-моему. Но смотри, еще выйдет… Я выброшу тебя вместе с твоими щенками!
— Это я знаю. Ты готов их выбросить, особенно если кто-нибудь даст тебе за это триста форинтов.
Господин Фицек зафыркал от злости.
— Ты, девка, я в жизни тебя еще не бил, но теперь слово скажешь — убью!
— Убивай, — сказала жена со слезами на глазах.
Господин Фицек поднял руку, затем опустил ее.
— Иди с глаз долой! Иди ты от меня… ты! — Он рванул дверь и так хлопнул ею, что стекла маленького кухонного окна посыпались на каменный пол.
Жена Фицека взяла щетку, тихо плача, стала выметать осколки. «Хорошо еще, что ребята были на улице и не слышали этого сумасшедшего». Затем она присела на кровать, расстегнула кофточку и начала кормить самого младшего Фицека.
6
Когда г-н Фицек выбежал из квартиры, ему казалось, что голова у него лопнет от напряжения. Куда идти? К кому обратиться? Кто ему посоветует? «Господи, господи, до чего одинок такой человек, как я! Никого у меня нет, — подумал он, — и семья мне враг, даже они против меня. Разве я плохой человек?.. Разве я плохого желаю?.. На каждом шагу яма или западня. Справа обойду — слева упаду в нее, слева обойду — справа провалюсь. Фабрика Кобрака душит, подмастерья кровь высасывают, домохозяин мучает, кожевник шкуру сдирает, заказчики грызут. И даже жена… О Берта, Берта! Разве не вам я желаю добра?»
Глотая слезы, Фицек оглянулся: перед ним была лавка Швитцера. Прыжок — и он очутился внутри.
Господин Швитцер дремал за прилавком, мухи тихо подпевали его дремоте. За двадцать лет он уже так привык к этой полудремоте, что малейший шум, а особенно шаги покупателей, будил его. Этот кажущийся сон настолько вошел ему в плоть и кровь, что иногда даже ночью, если, бывало, скрипнет шкаф или окно, он вскрикивал: «Что прикажете, сударыня? — И сонным голосом, лежа в постели, продолжал бормотать: — Получен первосортный швейцарский сыр…» — и поворачивался на другой бок.