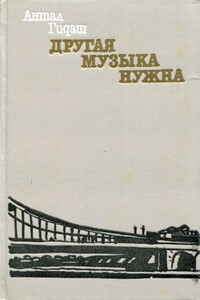Эрна испуганно села. «Эта негодница все же проболталась, — подумала она. — Напрасно я дала ей два форинта».
Антал Франк остановился перед Эрной и, бледный, помятый, спросил приглушенным голосом:
— У кого вы были? Отвечайте тихо. Все спят.
Антал Франк ошибался. Елена не спала: она слышала каждое слово.
— Отвечайте тихо. Не врите, потому что я все равно узнаю правду. У кого вы были?
— У Фенё, — равнодушно ответила Эрна.
— Кто он такой?
— Редактор «Мадяр Хирлап».
— Откуда вы знаете его?
— Я была его любовницей с одиннадцати лет.
— Так. И где живет этот господин?
— На улице Хонвед, четыре.
— Что случилось с девочкой?
— Ничего. Не далась.
— Так! — со свистом вылетело слово сквозь зубы Франка. — Это еще судебный врач должен установить. А вы откуда знаете?
— Я слышала.
— Что?
— А как она кричала.
— Кричала?
— Да.
— Так и вы были там?
— Да. В передней.
Пальцы Антала Франка впились в кухонный стол. «В передней!..»
— Почему вы отвели к нему Этельку?
Эрна молчала.
— Теперь ступайте, — прошептал Франк, — не то… Завтра приходите ровно к восьми часам. Поняли?
Эрна взглянула на него и молча вышла.
Антал Франк продолжал сидеть на кухне. Когда утром семья встала, он вошел в комнату и неловко погладил дочку по голове. «Сегодня воскресенье. Принимает судебный врач или нет? В «Непсаву», что ли, пойти? Но там сегодня тоже нет никого». Он снова примостился на кухне. Елена подала завтрак. Ребята уплетали вовсю. Этелька уже смеялась. Франк сидел молча. Два красных пятна горели у него на щеках.
Новак в это время поднимался по лестнице в квартиру Франка. «По крайней мере расскажу, — думал он. — По крайней мере ему…» — И он открыл дверь.
— Здорово, Антал! — но ответа не получил. — Что такое? Что случилось? Ты что, болен?
Франк сначала не заметил, кто вошел, потому что лицо вошедшего было в тени. Потом он узнал друга, вскочил, лицо у него передернулось, и он воскликнул:
— Новак! Новак! Новак!
И припал к широкой груди друга.
5
Жоли, вислоухая такса, наклонила голову набок так, что одно ухо повисло, другое опустилось на глаз. Собака блестящими глазами следила за губами Мартона. Мартон тихо, дружески объяснил ей что-то. Жоли повиляла хвостом, подползла ближе. Мальчик во время разговора делал несколько шагов вперед, тогда и собака шла за ним; когда же Мартон останавливался, она снова садилась.
— Знаешь, Жоли, — говорил мальчик, — ты очень хорошая собака. Я очень люблю тебя. Я думаю, что и папа тебя очень любит. Помнишь, он сам сказал. Но ты была глупышкой, да, Жоли, глупышкой. Ну, зачем это тебе понадобилось? Вытащила из шкафа печенку и съела половину. Разве ты не знала, что этого нельзя делать?
Жоли наклонила голову так, что ее левое ухо висело почти вертикально к полу.
— Хоть бы ты все быстро съела! Тогда папа мог бы подумать, что мы съели. А ты ела медленно и так увлеклась, что, когда папа пришел домой, даже не заметила его. Только когда он уже дал тебе пинка… Это бы еще ничего, что он тебе пинка дал… А вот теперь беда на носу… Ты что же, не могла разве удержаться? Что?
Жоли встала, зевнула, несколько раз вильнула хвостом и снова села.
— Папа не хочет тебя дальше держать. Поняла? Он сказал, что если мы тебя за эти три дня не отнесем куда-нибудь, он вышвырнет тебя на улицу. С третьего этажа. Что же мне теперь делать с тобой, Жоли? Что? Слышишь?
Собака только щурилась; но, услышав свое имя и жалобный вопрос: «Что же мне теперь делать с тобой, Жоли?» — подняла морду и тихо завыла.
— Теперь ты уже напрасно плачешь, — сказал Мартон. — Я, во всяком случае, подожду, может, папа забудет о тебе. Куда я тебя дену, если он не забудет? Куда? Жолика моя!..
Господин Фицек на самом деле не забыл жестокого оскорбления.
— Я терпел этого пса. Но мало того, что мои щенята объедают меня, так и он еще жрет мое мясо… Ты унесешь эту собаку, как я тебе сказал, не то она, ей-богу, вылетит завтра в окно.
Мартон безмолвно стоял перед отцом. Пишта заревел, тогда г-н Фицек прибавил:
— Ты, идиот, что тебе этот пес — брат, сват? Чего ревешь? Замолчи, а то и сам полетишь вместе с ним!
Пишта рыдал еще громче:
— Жолик… Жолика мой… Жалко.