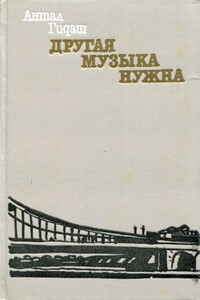Жена Фицека гладит. Лицо ее разрумянилось от горячего утюга, белье гнется, распрямляется и ложится вслед за утюгом. Разведен крахмал в тарелке, женщина окунает в него воротнички, затем утюг пробегает по ним; пальцы сжимают ручку утюга, обернутую тряпкой, чтобы горячий металл не обжег руки. Пальцы сжимают утюг, кожа на них снова шершавая. Руки опять стали серо-коричневыми.
И растет, растет куча белья. Белье жены домовладельца Гольдштейна, того Гольдштейна, у которого жена Фицека когда-то жила в прислугах. Может быть, уже и тогда она стирала это же белье.
— Сынок, Мартон, вечером понесем. Поможешь мне?
— Да, мама. С удовольствием!
— Возьми бумажку и запиши, сколько белья, потом сосчитай, сколько мне за него причитается.
— Сейчас… Ну, мама, диктуйте!
— Тридцать шесть женских сорочек — по шесть крейцеров… есть? Двадцать восемь панталон — по пять крейцеров штука… Пиши, сынок, как следует: ведь ты знаешь, старуха придирается ко всему… Семнадцать полотенец — по шесть крейцеров штука. Двадцать три простыни — по семнадцать крейцеров. Тридцать восемь носовых платков… чулки… ночные сорочки…
— Восемь форинтов девятнадцать крейцеров, — говорит Мартон и смотрит на мать, что скажет она: много или мало.
— Я тоже приблизительно так рассчитывала, — тихо отвечает мать. — Хорошие деньги! Подумай сам: пять дней стираю. И всем ведь готовлю… — И она улыбается, как будто напроказничала.
Она задумывается, одной рукой поддерживает другую, как будто первой трудно без поддержки, и смотрит на сына.
— Четыре куска мыла ушло — это пятьдесят два крейцера. Ну, щелоку, сынок, дров на сорок крейцеров… правда, я и готовила в это время. Скажем, все расходы форинт, — остается чистых семь форинтов девятнадцать крейцеров… Спрячь бумажку, — шепчет она сыну. — Если спросит отец, скажем: шесть форинтов пятьдесят. Ладно? — И она снова улыбается, как человек, нашедший верного товарища, на которого можно положиться. — Потом, к вечеру, когда отнесем белье, я поведу тебя, сынок, в кафе «Венеция»; там мы попьем хорошего кофе и кино посмотрим задаром.
— Правда, мама? — шепчет Мартон радостно: он еще никогда не был в кино.
— Правда. Только не проболтайся остальным.
…Вечером они понесли белье. Жена Фицека оделась, повязала голову косынкой. Корзину с бельем она покрыла платком, чтобы не видели. «Зачем всем знать, что я стираю чужим?»
По дороге она рассказывала сыну о кино. Она уже одни раз была там, и показывали картину о каком-то разбойнике; и когда пришли жандармы, то лошади рыли копытами землю, чтобы разбойники убежали…
— Знаешь, рыли землю копытами. Видно было, как лошади рыли землю. Это была настоящая картина! Это не придумаешь. Копытами рыли…
И еще несколько раз она возвращалась к тому, как лошади рыли копытами землю: это произвело на нее самое сильное впечатление.
Потом, когда корзину несли по длинной улице Непсинхаз, у каждого перекрестка они менялись местами, чтобы нести левой, если устала правая рука, и правой — если устала левая. Мать рассказывала сыну о том времени, когда она еще была девушкой и служила у Гольдштейнов.
— …И тогда познакомилась с твоим отцом. Случилось это так, что я отнесла чинить башмаки к угловому сапожнику, и там работал твой отец. Он был еще парнем, да, работал там и, когда взял у меня башмак, посмотрел на меня… «Где служите, душечка?» — спросил он. И тогда я еще не знала, что выйдет из этого, и ответила как есть: «У Гольдштейнов, здесь, по улице Доб, сорок два…» Да, там я служила… и каждое воскресенье ходила в Непсинхаз… Играли Луиза Блаха и Видор… Знаешь, тот, который покончил с собой из-за той артистки, выманившей его деньги… Бедный Видор!
— Мама, — спросил мальчик, борясь с замешательством, — у вас нет карточки того времени?
— Нет, сынок. Карточка дорого стоила. Театр — только десять крейцеров, на галерке место, и то Гольдштейн давал мне каждое воскресенье после обеда, чтобы я могла пойти. «Берта, — говорил он, — пойди сюда. Вот тебе десять крейцеров, вечером вымоешь посуду, а сейчас иди в театр…» Свои деньги мне жалко было бы тратить… Он уже умер. А жена — та всегда была злющей.