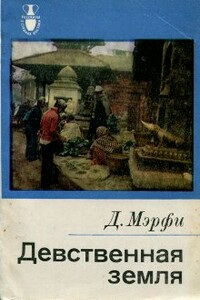Он был на огороде с женой Плато и тещей Хелазу, когда я без предупреждения появился у перелаза через забор. Плато подняла глаза от борозды, — сидя на корточках между молодыми стелющимися стеблями, она выпалывала сорняки, — увидела меня и выкрикнула слова, обозначавшие (я уже знал это): «белый человек». Захо работал на некотором расстоянии сзади нее. Его скрывал наполовину небольшой холмик. Он вскочил со стремительностью, всегда восхищавшей меня в гахуку, бросил расщепленный тростник, которым чинил ограду, быстро перешагнул через грядки батата и, встретив меня в нескольких ярдах от женщин, сразу же обнял за талию и привлек к себе. Отпустив меня, он быстро заговорил с Плато, которая бросила работу и, широко улыбаясь, смотрела на нас. Она ответила слегка обиженным сварливым тоном. Этот тон мне пришлось слышать так часто, что я стал воспринимать его как естественный для женщин гахуку. Он как бы ставил поп сомнение верховенство мужчины и утверждал волю женщины даже тогда, когда она подчинялась, как это сделала сейчас Илато, подав Захо пустую сетку, которую он расстелил между грядками, чтобы я мог сесть.
Мне не нужны были подобные знаки внимания, но, не зная, как сказать об этом, я сел на указанное место и достал сигареты. Это были сигареты с фильтром, и мне пришлось показать, с какого конца их закуривать. Я обжег себе спичкой пальцы, пока Захо неуверенно вертел сигарету перед тем, как взять ее в рот (такие ошибки, говорившие о неискушенности, неизменно вызывали хохот подростков — они всегда внимательно смотрели, когда я угощал мужчин сигаретами). Закурив наконец, Захо сел на корточки и стал затягиваться с таким шумом, что я испугался, как бы он не проглотил сигарету. Он держал дым в легких невыносимо долго, а потом, широко улыбаясь, выпустил мне его прямо в лицо, так что я чуть не задохнулся. Женщины, не спускавшие с нас глаз, моментально протянули ко мне руки в жесте восхищения. Сжимая и разжимая пальцы, они засыпали меня вежливыми фразами о том, что бы они сделали с различными частями моего тела. Каждая эта фраза была как будто специально придумана для того, чтобы шокировать людей, привыкших избегать в обществе упоминания половых органов или выделений тела.
Захо имел более чем элементарные познания в пиджин-инглиш, и этого было недостаточно для поддержания беседы. Сказывалось и мое неумение чувствовать себя непринужденно с незнакомыми людьми, усугублявшееся огромными различиями в нашем воспитании и антипатией к собеседнику. Трио это не было приятным. Женщины гахуку вообще казались мне непривлекательными. Некоторые черты их лиц иногда соответствовали моим представлениям о красоте, но в целом они производили неприглядное впечатление. От бедер до потрескавшихся мозолистых ступней голые ноги казались зернистыми от грязи и пыли. Лица часто были раскрашены смесью сажи и жира, подчеркивавшей ширину щек и плоского носа, проколотого в мясистых частях у ноздрей (в этих отверстиях носили целые наборы мелких украшений, начиная с использованных спичек и кончая цветными перьями). Даже волосы не производили такого впечатления, как у мужчин. Они свисали вдоль ушей нечесаными прядями, по цвету неотличимыми от поношенных плетеных сеток на их головах. Кое-кто из мужчин хоть изредка купался, женщины не мылись почти никогда. От них исходил запах дыма, застарелого пота и прогорклого сала, становившийся невыносимым, когда я шел позади них в жару по узким и душным коридорам в высокой траве.
У Плато эти недостатки хоть немного возмещались ее относительной молодостью. У Хелазу было на тысячу больше складок и морщин, служивших вместилищами для пыли и грязи. Как вообще все старухи, Хелазу была болтливее молодых, не притворялась застенчивой и, пользуясь привилегиями своего возраста, обнимала меня и гладила мои руки и ноги без малейших признаков отвращения. Захо сидел рядом на корточках, покуривая сигарету, и иногда переводил слова Хелазу. Проявления интереса к моей особе имели то преимущество, что, пока они длились, от меня не требовалось ничего, кроме пассивного согласия, и не надо было думать, что говорить. Мне было бы приятнее, если бы женщины вернулись к работе, но они явно не собирались отказываться от редкого блюда. Стать предметом безраздельного внимания женщин было само по себе достаточно неприятно, не говоря уже о том, что они вмешивались в разговор, задавая Захо вопросы, явно касавшиеся моей персоны. То Плато сморкалась и вытирала пальцы о свое выставленное бедро, то Хелазу поднимала морщинистую грудь и чесала под ней пятно экземы. Я задавал вопросы о самых простых, обыденных вещах — названиях растений и сельскохозяйственных орудий, — и Заховконце концов как будто потерял интерес к беседе. Для меня же разговор вскоре стал не менее затруднительным, чем светская беседа о пустяках. Любая моя попытка коснуться более важных предметов наталкивалась на плохое знание Захо пиджин-инглиш и на раздражающее упорство, с которым он отрицал существование верований, правил, определенных мотивов поведения. Делал он это, вовсе не желая ввести меня в заблуждение. Я еще слишком мало знал, а потому неправильно ставил вопросы, но основная причина в том, что любой уклад жизни содержит массу неписаных законов, правил и представлений, столь укоренившихся в миропонимании носителей этого уклада, что им не нужно — а иногда это и невозможно — выражать их словами. Мне пришлось снова и снова напоминать себе, что моя работа требует почти безграничного терпения, скрупулезного внимания к деталям и способностей сыщика.