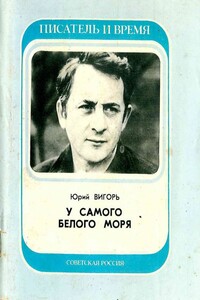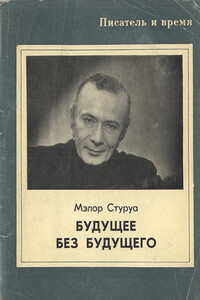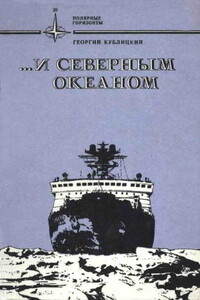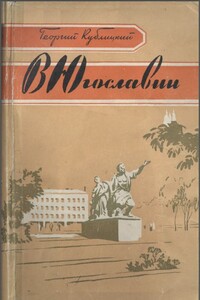За долгие скитания по волжским плесам не утратила для меня привлекательности ночная капитанская вахта. О, это часы особые, и ощущения — тоже! Пусть даже ночь самая распрекрасная, светлая и тихая ночь середины лета, — она все равно лишена полуденной речной безмятежности, когда Волга живет вольно и весело, когда полны народом песчаные пляжи, а города охотно раскрывают вам неповторимость своего облика или, увы, свое приедающееся сходство с соседями.
Ночь на реке полна очарования для того, кто, выйдя на палубу, вдыхает влажный воздух и любуется звездным небом над смутной, безликой полоской берега, то ли дальнего, то ли вовсе не далекого — разве разберешь во тьме. Да и не важно это…
Да, пассажиру не важно.
Капитан стоит вахту от ухода зари, когда она погаснет окончательно, до первых ее проблесков. Это летом. Осенью его вахта начинается и кончается в полной тьме. Он несет свою вахту, когда спят города, когда на дебаркадерах, где причаливает судно, холодная пустота и позевывающие матросы, когда собачий лай в заречной деревне слышен так, будто пес брешет где-то возле, на воде.
Это трудные, самые трудные часы для реки, потому что река живет и во тьме, она не знает ночного сна, трудится без смены и без выходных. Расписание и график гонят по ней тысячи больших и малых судов. Река сохраняет рабочий ритм и к полночи, и за полночь. Этот ритм в темную пору держат капитаны.
В полуночной рубке только двое, капитан и рулевой. У трапа на капитанский мостик висит объявление: "Посторонним вход воспрещен". Ночью — тем более. И если для тебя сделано редкое исключение — знай свой шесток. Молчи и наблюдай. Чем меньше ты спрашиваешь, тем лучше. Вопросы потом, при дневном свете, когда капитан хорошенько выспится и оттает после ночного напряжения.
В рубке темно. Два силуэта. Лица неразличимы.
Уголек сигареты и слабомерцающие глазки приборов. Теплоход, чуть вздрагивая, слабо пульсируя, несется в ночь. Что-то позвякивает, быть может, графин на столике.
Глаза еще не успели привыкнуть к темноте, а уши уже улавливают речную разноголосицу. Это переговариваются по радио корабли и пристани. Одни голоса отчетливые, близкие. Другие прорываются издалека сквозь треск, попискивание, помехи. Не всегда улавливаю смысл, хотя на реке я не новичок.
Идем мы вниз от Горького. Скоро пристань Бармино, у нас там остановки нет. Здешний плес капитаны не любят. Если быть точным, то не любят капитаны довольно большой участок Волги, в центре которого — Горький, признанная волжская столица. Простирается он вверх от Горького до Городца, до плотины Горьковской ГЭС, вниз от Горького — до Чебоксар, где кончается влияние плотины, поднятой у Жигулей.
Здесь недостает последнего звена Большой Волги: Чебоксарского моря. Пока не построят Чебоксарскую ГЭС, на этом плесе Волга не то чтобы в первозданном состоянии, но и полноценной частью Большой Волги ее не назовешь.
— Вы посмотрите, сколько землечерпалок и землесосов, — сокрушается капитан. — Дно скребут дни и ночи, а все равно мелко и тесно.
Он замолкает и берет бинокль. На реке словно иллюминация. Красные, зеленые, белые или, вернее, желтые огни. И все движутся, перемещаются в сливающейся темноте воды и неба. Нет, часть из них неподвижна, это светятся береговые поселки, но мы-то бежим со скоростью почти двадцать пять километров в час, и кажется, будто световые цепочки спешат нам навстречу. Другие действительно движутся: огни на мачтах встречных и обгоняемых судов, их бортовые огни, окна кают пассажирских теплоходов. Наконец, нам подмигивают проблесковые огни на буях, ограждающих фарватер. И столько их, всех этих огней, что теряешься, перестаешь различать, что к чему, и начинает тебе казаться, будто судно идет какой-то своей дорогой, не обращая на всю эту иллюминацию никакого внимания.