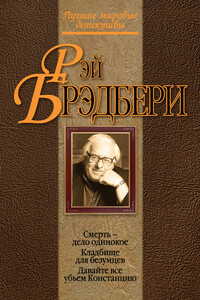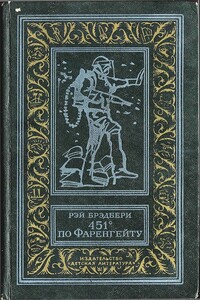Слепой Генри ждал нас в проходе между рядами, который вел вниз к оркестровой яме и дальше – к заброшенным гримеркам в цокольном этаже.
– Не рассказывай, – сказал Генри.
– Что?
– Про фотографии наверху, в кинобудке. Это ведь правда? Им действительно – капут, как выражается Фриц Вонг?
– Сам дурак, – буркнул Фриц.
– Генри, но как ты догадался?
– Я уже все узнал. – Генри направил невидящий взгляд в оркестровую яму. – Я сходил туда, где зеркала. Трость мне не нужна, фонарь – тем более. Просто пришел, протянул руку и потрогал зеркало. И сразу понял, что фотографии наверху – тоже… Потом прощупал все остальные зеркала. Никаких следов. Все стерто. Это ведь значит, что там, наверху, – он перевел взгляд на невидимые задние кресла, – все тоже исчезло. Так ведь?
– Так… – слегка запнувшись, ответил я.
– Пойдем, сам посмотришь. – Генри повернулся лицом к оркестровой яме.
– Погоди, сейчас включу фонарь.
– Опять ты со своим фонарем! Может, хватит уже – одно и то же? – сказал Генри и уверенно шагнул в яму.
Я шагнул следом за ним. Зато Фриц стоял, как на параде.
– Ну и? – спросил я. – Ты чего-то ждешь?
Он сделал шаг.
– Вон, сам посмотри! – Генри носом указал на вереницу зеркал. – Что я говорил?
Я двинулся вдоль зеркального ряда, проверяя каждое из них – сперва лучом фонарика, а потом пальцами.
– Ну, что? – прорычал Фриц.
– Здесь были имена, а теперь нет имен. Там были фотографии – теперь нет фотографий.
– Я же говорил, – сказал Генри.
– Интересно, почему бывают глухонемые, но не бывает… слепонемых? – спросил Фриц. – Почему все время нужно балаболить?
– Надо же чем-то заполнять время. Что, давай перечислим всех по списку?
Я начал называть имена по памяти.
– Забыл Кармен Карлотту, – поправил меня Генри.
– О’ кей. Карлотта.
Фриц поднял взгляд.
– Главное, не забудь того, кто украл фотографии из кинобудки…
– А потом стер каракули на зеркалах.
– Почему-то такое ощущение, что всех этих дам не было на свете вообще, – сказал Генри.
Он еще раз прошелся вдоль череды зеркал, склоняясь к каждому и ощупывая его слепыми пальцами.
– Ничего… И здесь ничего… А ведь помада была сильно засохшая от времени. Представляю, сколько пришлось возиться с каждой надписью. Кто же такой старательный?
– Генриетта, Мейбл, Глория, Лидия, Алиса…
– И каждая спускалась сюда и стирала свою надпись?
– Не совсем. Мы уже выяснили, что все эти женщины приходили и уходили, рождались и умирали – и каждый раз оставляли имена, вроде мемориальной таблички.
– То есть?
– Все эти надписи появились в разное время – начиная примерно с двадцатых годов. Каждая из этих женщин или, как ты говоришь, дам спускалась сюда на собственную погребальную церемонию, устраивала себе своеобразные похороны. В первый раз, в первом зеркале, она видела одно лицо, а в следующем – было уже другое…
– Сочиняешь на ходу?
– Боюсь, что перед нами не что иное, как большой парад похорон, рождений и погребений, сделанный с помощью одной пары рук и одной лопаты.
– Но ведь почерк был везде разный… – Генри потрогал пустоту рукой.
– Люди все время меняются, начиная с рождения. Просто она никак не могла выбрать для себя какую-то одну жизнь – а может, не хотела. Поэтому вновь и вновь оказывалась перед зеркалом… Стирала помаду и рисовала себе другие губы. Смывала одни брови и рисовала другие, еще более красивые. Увеличивала глаза. Поднимала границу волос. Надвигала шляпу, как абажур, а потом, наоборот, – снимала. Или раздевалась совсем, догола.
– Вот отсюда, пожалуйста, поподробнее… – улыбнулся Генри.
– Не смешно, – сказал я.
– А что – хорошее занятие, – продолжал Генри, – малевать надписи на зеркалах – и смотреть, как ты изменилась.
– Не каждый же день. Раз в год, может, раз в два года. Сделать себе губки бантиком – на полгода или хотя бы на лето – и любоваться, чувствуя себя другим человеком. Ну что, Генри?