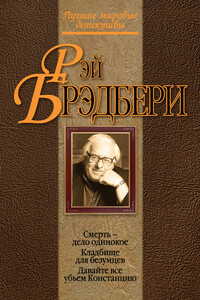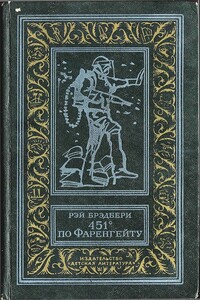– Фонарик, спички, блокнот… Карандаш – чтобы делать записи… – Я порылся в карманах. – Что еще?
– Вино, – сказал Фриц, – на случай, если эти страшные люди наверху не держат бренди.
Бутылку вина мы уговорили на двоих еще внизу – как только увидели гигантское нагромождение ступенек, ведущее в старую кинорубку.
Фриц улыбнулся.
– Чур, я иду первым. Не собираюсь тебя ловить, если ты начнешь падать.
– Спасибо, ты настоящий друг.
Он сделал первый шаг в темноту. Я двинулся следом, ощупывая пространство лучом фонаря.
– Слушай, а с чего ты вообще взялся мне помогать? – спросил я на ходу.
– Это все Крамли. Я позвонил ему, и он сказал, что лежит прикованный к постели. Странно, правда? Обычно общение с такими мудаками, как ты, очищает кровь и заново запускает сердце… Держи нормально фонарь, а то я споткнусь.
– Лучше не зли меня… – Я угрожающе дернул лучом.
– Не хотел это говорить, – продолжал Фриц, – но ты действительно мне удался. Ты ведь у меня десятый, если не считать Мари Дресслер!
Мы достигли высоты, на которой носовые кровотечения являются физиологической нормой. Всю дорогу до конца второго балкона Фриц упивался собственной руганью по этому поводу.
– Так, давай еще раз, – сказал он, не переставая шагать по ступенькам. – Ну, допустим, мы поднимемся туда. И что дальше?
– Дальше – обратно, тем же путем. Вниз – в подвал с зеркалами…
– Стучи! – сказал Фриц, когда мы пришли.
От моего стука дверь кинорубки распахнулась сама, открыв нашему взору темноту, в которой угадывались два проектора. Один из них работал – и был здесь единственным источником света.
Скользнув лучом по стене, я присвистнул.
– Что? – спросил Фриц.
– Они исчезли! Фотографии. Кто-то их сорвал.
Луч фонарика нервно запрыгал по пустым рамкам: судя по всему, призраки темной комнаты испарились всем коллективом.
– Черт! Кажется, мы в полном дерьме. Этот чертов козел… господи, я уже начал разговаривать как ты!
– Узнаю своего сынка, – с одобрением сказал Фриц. – Покрути-ка еще фонарем!
– О’ кей, только без нервов… – Я осторожно прошел вперед, дрожащей рукой направляя луч на то, что виднелось между двумя проекторами.
Там, конечно же, сидел отец Констанции – застывший, как ледяная статуя, с одной рукой на выключателе.
Стрекочущий проектор на полной скорости прокручивал пленку, замкнутую в кольцо, и картинка повторялась снова и снова, каждые десять секунд. Правда, не на экране, а внутри проектора, потому что дверца, которая пропускает изображение на экран, была закрыта. Но если придвинуться поближе и прищурить глаза, можно было разглядеть их всех до одной: Салли, Долли, Молли, Холли, Гейли, Нелли, Роби, Салли, Долли, Молли… и так до бесконечности.
Я долго смотрел на старика Раттигана, но так и не смог определить, чего больше в гримасе, сковавшей его лицо, – торжества или отчаяния.
Потом перевел взгляд на стены, где уже не было ни Салли, ни Долли, ни Молли… Наверное, тот, кто их украл – кто бы это ни был, – не предполагал, что у старика на этот случай есть запасной вариант: прошлое в виде закольцованной пленки, на которой вся «семейка» бегает по кругу. Или…
Внутри у меня все оборвалось.
В голове явственно прозвучал голос Бетти Келли, повторявшей вопли Констанции: «Прости меня, прости, прости!» А потом – голос Квикли: «Как мне вернуть, как мне вернуть?» Что вернуть? Другое «я»?
«Кто же это с тобой сделал? – размышлял я, стоя над самым старым из стариков. – Или не кто-то – или это ты сам?»
Мертвые мраморные глаза были неподвижны.
Я выключил проектор.
Но они продолжали мелькать – теперь уже по сетчатке моих глаз: танцующая дочь, бабочка, прекрасная китаянка, клоунесса…
– Бедная заблудшая душа, – прошептал я.
– Он что – твой приятель? – спросил Фриц.
– Нет.
– Тогда и нечего его жалеть.
– Фриц! У тебя вообще сердце внутри есть?
– У меня шунт. А сердце я удалил.
– Как же ты без него живешь?
– Дело в том, что я… – Фриц протянул мне свой монокуляр.
Я вставил в глаз холодную линзу и направил прямо на него.