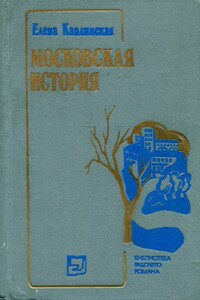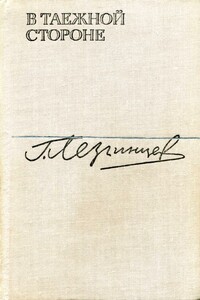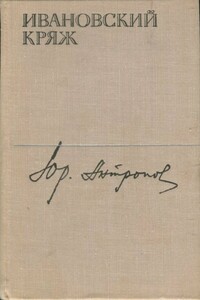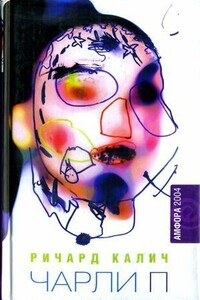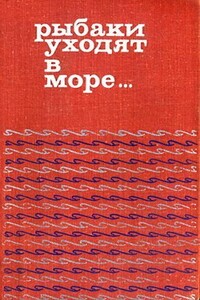— Гуменники, — сказал Штробл. — По вечерам они возвращаются с полей. А утром полетят обратно.
Шютц долго следил за гусями, задрав голову, как они, вытянув шеи, следуют за вожаками клиньями разной величины. И он представил себе, как удивилась бы Фанни и дети, как посыпались бы вопросы:
— Столько гусей?
— Да, столько гусей.
— Их даже сотни? И даже тысячи?
— Сотни наверняка. Да, тысяча, уж не меньше.
— И куда они летят?
— На поля, на поклев.
— А откуда прилетают?
— С севера, наверное, — пожмет он плечами.
— А что там есть… на севере?
— Вода.
— Они что, ночью садятся на воду?
— Возможно, они спят на воде.
— А может, и нет?
— Может, и нет.
— Тогда где они спят, если они, может, и не садятся на воду?
Шютц решил как-нибудь прогуляться вдоль берега туда, где мыс на севере врезается в Бодденскую бухту. Должны ведь гуси иметь место для отдыха.
Время нашлось накануне отъезда домой. Это был первый случай, когда он вернулся в общежитие со стройки до наступления темноты. Было холодно, тускло, песок у воды смерзся. Он долго шел вдоль пляжа, временами переходившего в плоские склоны над морем; кое-где Бодден прогрыз в побережье похожие на бухточки углубления, здесь еще держались деревья и кустарники, глубоко пустившие сухие корни. Шютцу не раз казалось, что вот-вот он дойдет до окончания мыса, но узкая полоска суши тянулась и тянулась. Шютц передохнул на одном выброшенном к самому склону, отполированном ветрами и дождями корневище выкорчеванного дерева, поблизости от густого черно-зеленого, веникообразного кустарника. Шютц смотрел мимо «веников» на море, на которое спускалось низкое серое небо. Над водой взмыла чайка. Закаркали вороны. Наступили сумерки, и Шютц отправился в обратный путь. Вернулся он скорее, чем рассчитывал, а когда подошел к самому городку общежитий, увидел летящих гусей. Они напомнили ему гурьбу весело болтающих ребятишек, припозднившихся с возвращением домой после игр.
Два часа спустя сел в спальный вагон поезда.
В кухне стоял синий диван. Когда Фанни и Шютц хотели совсем уединиться, они брали бобриковую подушку с полосатого раскладного дивана в гостиной и устраивались на нем поудобнее.
— Пойдем! — сказал Шютц Фанни, взяв ее за руку; и вот их головы лежат рядом на бобриковой подушке.
Негромко наигрывает радио. Оно высоко над ними, на углу холодильника, оттуда доносятся звуки ненавязчивой нежной мелодии.
Шютц устал, но не чересчур. Вдыхает запах волос Фанни. Распущенные, они мягкие на ощупь и пахнут, если иметь немного воображения, сиренью. Сирень он купил утром в цветочном киоске вокзального вестибюля, три ветки с белыми, пушистыми зонтиками — он едва их заметил, так торопился, потому что поезд пришел с опозданием, а он хотел еще успеть застать Фанни с детьми дома.
Застать не застал, зато у него была сирень! Белая сирень. В январе. Для Фанни. Он представил, какими круглыми от удивления станут ее глаза. Именно такими они и были вечером, когда, увидев его с цветами, она воскликнула:
— Ты с ума сошел!
И ему ничего другого и не надо. Он всегда привозил Фанни гостинцы, когда случалось быть в отъезде; а однажды — они тогда еще не поженились — вот эту самую черную кружевную ночную рубашку, в которой она походила на девочку-подростка, шутки ради изображавшую из себя роковую женщину. В годовщину свадьбы всегда дарил розы, этого у него не отнимешь. Но белая сирень в январе — невиданное дело, и Шютц, стукнув себя кулаком в грудь, горделиво сказал:
— Это от меня!
И позволил Фанни и детям нежничать и целовать себя, как оно и положено человеку, принесшему в дом такую редкость, как белая сирень в январе.
— Тебе удобно? — спросил Шютц.
Фанни кивнула, уткнувшись лицом в его шею, и он, осторожно проведя пальцами по ее губам, понял, что она улыбается.
— Если тебе удобно, — сказал Шютц, — моя рука может преспокойно себе отсохнуть! — но удержал ее силой, когда она хотела поднять голову: — Лежи так…
«Он рад, что дома, — думала Фанни. — Я чувствую, хоть он этого и не говорит. Втроем в одной комнате, маленькой комнате общежития-барака, на стройке — грязь и песок. Я бы не смогла. Я много чего могу. Могу написать три тысячи строк за смену, и это в помещении, где летом в жаркие дни температура доходит до тридцати пяти — сорока градусов, а «тастоматы»