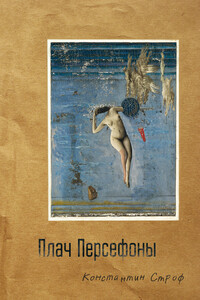Охранник прочел записку и впервые взглянул мне прямо в лицо. Он спрятал книгу в задний карман брюк, как всегда делал перед нашими прогулками по двору, затем приложил палец к сжатым губам.
Я кивнул и стал смотреть, как он открывает мою камеру. Он вошел, завернул меня в одеяло, взял под мышку и вышел из блока. Помахал охраннику за столом у двери, а в раздевалке засунул меня в спортивную сумку со своими вонючими носками и грязными рубашками. Вынес меня на улицу и бросил в машину, которая зажужжала, когда заводилась, – судя по техническим книгам, такой звук выдает неисправность водяного насоса. Ухитрившись слегка расстегнуть молнию сумки, я смог дышать и выглянуть наружу. Я снова был на заднем сиденье и не видел ничего, кроме кусочка ярко-синего неба в окне и затылка моего стража. На зеркале заднего вида висел зеленый силуэт дерева и белое распятие. Ехали мы быстро. Это было ясно по тому, как машина проходила повороты; и казалось, что, переваривая свой поступок, он вел все быстрее и нервознее.
Мне пришло в голову, что для говорящих в идее беззвучной беседы с самим собой нет ничего странного, я же не видел в ней особого смысла. Не могу сказать, как я внутренне выражал свое мышление, если хотя бы в этом есть какой-то смысл, но никакой внутренний голос никакого внутреннего уха не искал. Само понятие внутреннего голоса и внутреннего слушателя поднимает вопрос пространственной ориентации. Действительно, если между ними нет пространства, то они едины, и не имеет смысла представлять одно из них как обратную функцию другого. Я ничего не говорил самому себе, разумеется. Но я и не думал самому себе.[228] Я думаю, думал, думывал. У меня не было голоса, и Гуссерль наверняка предположил бы, что я не могу обладать сознанием; насколько мне известно, так и есть. Для Гуссерля я бы все время жил с разрывом между означающим (мной) и означаемым (той чепухой, которую я думаю), поскольку я не говорил, а писал, а этот жест как-то отдален от меня. Становился ли я от этого туманнее или прозрачнее, оказывался ли ближе к своим идеям и своему «я» или дальше – я не знал.
Сколько длится воспоминание?[229]
Охранника звали Маурисио – это выяснилось, когда он вошел в дом, а жена подбежала и сказала:
– Маурисио!
Я все еще был в вонючей сумке. Тогда он вытащил меня наружу, и она снова сказала:
– Маурисио!
Обе реплики являлись законченными предложениями и не имели ничего общего.
– Это ребенок, – сказала она.
Маурисио, надо отдать ему должное, ничего не ответил.
– Тот мальчик, которого ты стережешь?
– Собирай вещи, – сказал Маурисио.
– Вещи?
Маурисио кивнул. Воистину он был человек немногословный.
– Маурисио?
– Быстро.
Розенде не пришлось объяснять ситуацию. Она засобиралась. Я сидел на диване в гостиной и смотрел телевизор с выключенным звуком. На стене висела икона Христа, обои над ней отклеились.
Розенда была маленькая женщина, несколько пухлая, мягкая на вид. Мне нравилось видеть ее грудь сквозь тонкую белую блузку. Я проголодался, но момент для записки был неподходящий. Тем более, Розенда уже и так распереживалась.
– Маурисио? Куда мы едем?
– В Мексику.
MA: Ну и что ты собираешься делать?
ИНФЛЯТО: О чем ты?
MA: Я знаю про твои похождения.
ИНФЛЯТО: Какие похождения?
MA: He принижай мои мыслительные способности. Ты вовсе не умный. На самом деле ты лопух.
ИНФЛЯТО: По-моему, сейчас не лучшее время для разговора.
MA: Когда будет лучшее время для разговора?
ИНФЛЯТО: Ну тогда слушай. Я устраиваюсь в Университет Техаса.
MA: Да знаю я.
ИНФЛЯТО: Ты не можешь знать.
MA: Из Техаса звонили, потому что в твоем резюме пропущена третья страница.
ИНФЛЯТО: Ты мне не сказала.
MA: A как бы я сказала? Я ведь не знала, что ты туда устраиваешься. Но страницу отослала, да.
ИНФЛЯТО: Эта история с Ральфом…
MA: Пошел в жопу. Ральф – это тебе не предлог. Ральф здесь ни при чем. По-моему, ты о нем даже не жалеешь. Ты как будто рад, что он пропал. Ты его боялся.
ИНФЛЯТО: Это неправда.
MA: Это правда. Пока он был безмозглый младенец, ты не возражал. Тебе нравилось подбрасывать его в воздух и все дела. Но как только он дорос до твоего уровня, ты наложил в штаны.