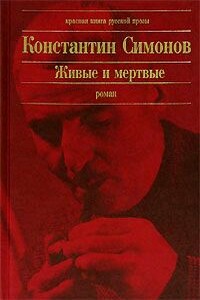Отчим был последователен. Разговаривать на эти темы он не желал, а помогать считал нашим общим долгом.
Помню, как туда в тридцать пятом — тридцать шестом годах, уже не помню, в самый ли Оренбург или в какой-то из городов Оренбургской области стали посылаться вещи, посылки и деньги.
Как раз тридцать пятый год был последним годом, когда я хорошо по тому времени зарабатывал. Я поступил в Вечерний рабочий литературный университет, созданный по инициативе Горького, по вечерам занимался, а днем работал в тот год на кинофабрике «Техфильм». Работа была сдельная, мы оборудовали лихтваген. Заработок, который я получал, позволял не только вносить свою долю в общий семейный котел, но выделять еще и какие-то деньги для посылки теткам вместе с теми деньгами, которые могли наскрести отец и мать. Так было до следующего года, когда я перешел на дневное отделение, работу оставил, печататься по-настоящему еще не начал, дела мои в материальном отношении стали намного хуже, и свою лепту в помощь теткам я вносил уже и меньше, и реже — когда что-то вдруг печатал и получал за это деньги.
Не могу утверждать с точностью, по-моему, мать ездила навещать теток два раза — ив тридцать шестом, и в тридцать седьмом годах, но может быть, память меня подводит, и это было только один раз. Тогда, если так, то скорее это было, пожалуй, уже в тридцать седьмом году. Во всяком случае, сама эта поездка была уже после нескольких происходивших в Москве процессов, после того как уже началось то, что потом было названо «необоснованными массовыми репрессиями». Поездка эта воспринималась драматически отчимом, мною, очевидно, в глубине души и самой матерью, но она твердо решила поехать, увидеть сестер. В ответ на доводы отчима, который боялся за нее и говорил, что, может быть, правильнее продолжать делать то, что мы делаем, — писать, помогать, как можем, материально, — чем ехать с перспективой в дальнейшем лишиться этой возможности помогать, она сказала, что все-таки она поедет, потому что если не поедет, то перестанет быть самой собой, что она не может не поехать. Вот пишу это и не могу точно вспомнить, один или два раза она ездила. Если два, то первая поездка была в начале тридцать шестого года, когда общая атмосфера еще не стала такой, какой она стала впоследствии, и к этой поездке не относились те драматические разговоры, которые я вспоминаю.
Помню, как мать вернулась из этой поездки тридцать седьмого года — измученная, печальная, усталая от дороги и жизни там, где она была, но при этом не потеряв надежд на будущее. Видимо, ей казалось, может быть, именно потому, что сестры ее жили очень плохо и тяжело, что уже ничего худшего, чем случилось с ними, случиться не может. Но будущее показало, что может случиться и худшее. И случилось это, как я уже сказал, потом, позже, в разгар всего того, что было закручено в тридцать шестом году и раскрутилось с такой страшной силой в конце тридцать седьмого* Я помню только свои чувства, связанные с происшедшим с тетками, а никаких действий, поступков не помню, очевидно, никакие поступки и действия были в то время или невозможны, или казались невозможными, а точнее, и казались и на самом деле были невозможными и поэтому просто-напросто не очень-то приходили в голову, мне, во всяком случае.
Что еще добавить связанного с атмосферой тех лет и с моим восприятием этой атмосферы, а может, точнее сказать, с отсутствием нормального, с нашей нынешней точки зрения, ее восприятия? Скажу только о том, что было как-то связано с моим собственным непосредственным жизненным опытом, если это можно назвать опытом для того времени.
Среди молодых, начинающих литераторов, к которым примыкала и среда Литературного института, были аресты, из них несколько запомнившихся, в особенности арест Смелякова, которого я чуть-чуть знал, больше через Долматовского, чем напрямую. Было арестовано и несколько студентов в нашем Литературном институте. На старшем курсе считавшийся немножко странным и чуть-чуть юродствующим, но едва ли не самым способным, Александр Шевцов, затем Поделков. На нашем — один парень, который не запомнился ничем — ни стихами, ни поведением своим в институте, не запомнился мне и фамилией, дальнейшей судьбы его так и не знаю, может быть, она впоследствии оказалась и не самой худшей из судеб, но, во всяком случае, не литературной. Был арестован и поэт с нашего курса Валентин Португалов, поклонник Багрицкого, ездивший к нему, еще когда тот жил в Кунцеве, совсем мальчик, — изящный, тонкий, красивый юноша, писавший тогда довольно вычурные, не нравившиеся мне стихи. С ним я встретился только двадцать с лишним лет спустя, когда он приехал в Москву с Колымы, где сначала отбыл срок, а потом остался работать, собирал там фольклор, переводил, писал, приехал в Москву с книгой стихов — очень крепкий на вид, квадратный, бывалый человек с кирпичным северным загаром. Он выпустил книгу стихов — мужественных, северных и по теме, и по звуку своему, и работал потом на Высших литературных курсах. Хотя на вид был очень крепок, умер рано, лет в пятьдесят. Видимо, все-таки прожитая жизнь сделала свое дело, хотя он никогда ни на что не жаловался в разговорах. Как-то однажды, когда мы с ним сидели, занимались подготовкой к печати его книги, вдруг назвал мне продолжавшего здравствовать человека, в свое время своим заявлением на его счет посодействовавшего его отъезду на Колыму. Сказал об этом человеке с полупрезрением, с полупониманием, что, наверное, тому действительно померещилось что-то неподходящее в том, что говорил он, Португалов, во время их разговоров между собою с глазу на глаз. Хотя ничего особенного Португалов не говорил, и все это не стоило выеденного яйца и не заслуживало того, чтобы писать куда-то. А тот посчитал, что заслуживало, и написал. Мог не писать. Однако написал. Допускаю даже, что полагал, что делает доброе дело, что это его обязанность.