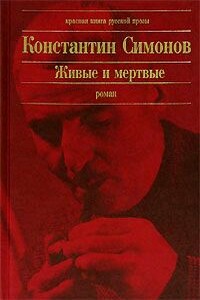Как ни странно может это показаться, но сейчас, оглядываясь на те годы, я не помню, чтобы у меня возникало хотя бы подобие мыслей, что кто-то в том институте, где я учился, мог написать про кого-то — про меня или про другого — заявление. Вот не приходило тогда в голову это, да и все тут. И спустя семь или восемь лет, в разгар войны, я, уже бывалый и опытный человек сравнительно с тем временем, о котором пишу сейчас, оглушенно слушал ничем, никакими обстоятельствами и внешними причинами не вызванную, просто вырвавшуюся из души отчаянную исповедь одного из бывших студентов Литинститута, у которого в те годы, оказывается, был посажен отец, чего я не знал, и которого «сговорили» сообщать о наших настроениях и разговорах. Он был предельно искренним со мной, когда исповедовался, ничто не вынуждало на эту исповедь, просто в разгар войны у меня дома, куда он пришел, ему стало нестерпимо стыдно за какой-то кусок жизни, вот за этот, и он, говоря, конечно, правду — убежден в этом! — говорил мне, что он, наверное, просто что-то бы сделал с собой, если бы из-за того, что он записывал, сообщал, кто-то пострадал, но, к его счастью, никто не пострадал, может быть, потому, что он ничего особенного не записывал и не мог записывать, но сам этот факт в его жизни для него остается ужасным. Но этот разговор был во время войны, а разговор с Португаловым уже после смерти Сталина, а тогда, в тридцать пятом и в тридцать шестом годах, мне не приходило в голову, что кого-то из нас могут сговаривать писать про то, о чем мы говорим друг другу, и про наши настроения. Не приходило в голову, да и все.
Впервые жизнь меня с чем-то похожим столкнула и заставила думать об этом позже, летом тридцать седьмого года.
Летом тридцать седьмого года Владимир Петрович Ставский — в то время секретарь Союза, уделявший довольно значительное внимание нашему Литературному институту, поддержал идею нескольких прозаиков — наших студентов Льва Шапиро, Всеволода Саблина и Зиновия Фазина поехать по местам событий гражданской войны на Северном Кавказе и написать коллективную документальную книжку о Серго Орджоникидзе. Мои товарищи привлекли к этому делу и меня — уж не помню, то ли потому, что я хотел попробовать свои силы в прозе, то ли полагая, что в такой книжке могут оказаться уместными и стихи об Орджоникидзе, и, по их мнению, я мог их написать, — в общем, я вошел в эту тройку четвертым.
Ставский не только одобрял идею, но и помогал нам, сводил нас даже на московскую квартиру к тогдашнему секретарю — не то Северо-Кавказского, не то Ростовского обкома — Евдокимову, с которым вместе участвовал когда-то в гражданской войне. Мы несколько часов просидели у этого хмурого, мрачноватого человека, как мне казалось, думавшего о чем-то другом, далеком, не то угрюмого, не то подавленного чем-то, но при этом откликаясь на воспоминания Ставского, тоже вспоминавшего какие-то интересные для нас подробности того времени.
Все было решено, и мы должны были уже ехать, когда вдруг меня после занятий вызвали к Ставскому, сказали, чтоб я немедленно шел к нему в Союз писателей. Членом Союза я тогда еще не был, был просто студентом, автором нескольких циклов стихов в журналах и одной поэмы.
— Ну, рассказывай, что ты там за несоветские разговоры ведешь в Литинституте. Собираешься ехать писать об Орджоникидзе, а в разговорах восхваляешь белогвардейщину, — примерно так начал Ставский, а я буквально онемел от неожиданности, потому что никаких несоветских разговоров ни с кем не вел, никакой белогвардейщины не восхвалял и вообще не понимал, что произошло.
— Вот я имею такие сведения о тебе, — сказал Ставский, — давай выкладывай правду — это единственный способ разговора, который у тебя со мной возможен.
Но хотя я был совершенно огорошен этим началом, на самом деле единственный способ говорить правду значил начисто отрицать то, о чем меня спрашивал Ставский, то, что ему кто-то наговорил про меня, причем мне даже в голову не приходило, кто.
Разговор продолжался минут десять, может быть, пятнадцать и кончился тем, что я так и не признал того, чего не мог признать, не рассказал того, чего не мог рассказать, потому что этого не было, а Ставский рассердился и сказал, что раз так, то те трое поедут, а ты не поедешь. Нечего тебе писать об Орджоникидзе, раз ты не хочешь даже здесь со мной начистоту разговаривать. Пропагандирует, понимаешь, контрреволюционные стихи, а собирается ехать по следам Орджоникидзе. Это он сказал уже под конец вслед мне.