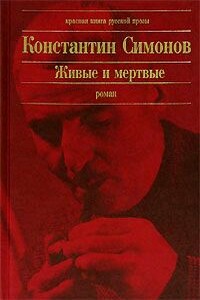Старший сын старшей из сестер, он по традиции был назван Леонидом в честь деда, а уж немецкое отчество ему досталось от отца. Его отстоял завод «Красный треугольник»: кто-то на заводе, а может быть, и не только на заводе встал на дыбы, заявил, что такого блестящего специалиста, как он, завод терять не может, и мой самый старший двоюродный брат Леонид — при своем княжеском происхождении по матери и немецкой фамилии и отчестве по отцу — остался работать у себя на «Красном треугольнике» в Ленинграде. В начале войны Леонид пошел в ленинградское ополчение, как командир запаса был назначен командиром роты. Погиб в бою от смертельной раны в живот. Его младший брат Андрей работал в Оренбургской области, куда его выслали, по своей специальности, хотя не помню, сразу ли это произошло, но потом было именно так, — в сорок первом году попал в армию и всю войну прошел солдатом без единой царапины. Их мать, Людмилу Леонидовну, вместе с моей старшей двоюродной сестрой Марусей и ее дочкой Наташей, которая уехала вместе с ней в ссылку ребенком, в разгар войны мне, к тому времени ставшему довольно известным писателем и военным корреспондентом, удалось после восьми лет высылки перетащить в Москву, где в 1955 году Людмила Леонидовна еще успела встретить свое восьмидесятилетие в кругу оставшихся в живых своих родичей.
А две другие мои тетки погибли там, куда их выслали, погибли не сразу, а в конце тридцать седьмого — в тридцать восьмом году, когда их, живших там в ссылке, кому-то понадобилось еще и посадить в тюрьму, где обе они умерли. Не знаю, могу только догадаться, как это вышло, — может быть, одна из сестер, не питавшая нежности к Советской власти, что-то кому-то сказала, а вторую забрали потому, что она ее сестра, — не знаю, может быть, так, а может быть, и не так.
Но это все было потом. А тогда, в тридцать пятом году, мать, узнав из писем, что сестры высланы так же, как и многие другие уже старые люди, которых она с юных лет знала по Петербургу, опечаленно сидя вечером со мной и с отчимом, вдруг сказала, хорошо помню это: «Если бы я тогда, как Люля, вернулась из Рязани в Петроград, конечно, я сейчас была бы вместе с ними».
Я помню, как меня поразило тогда то, как она это сказала. Сказала с каким-то ощущением своей вины за то, что она не с ними, что ее миновала та чаша, которая не миновала их, ее сестер. Потом спросила отчима: «Может быть, и отсюда нас будут высылать?» — сказала «нас» не как о семье, а имея в виду себя, свое происхождение и свою девичью фамилию Оболенская.
— Ну что же, будут высылать — поедем! — сказал отчим, сразу отсекая то, что отторженно от него подумала мать о самой себе.
Когда мать что-то еще добавила на ту же тему, рассердился и стал, как это с ним бывало, сразу резок, почти груб, сказал что-то вроде того, что довольно болтать языком, придумывать то, чего пока нет. Если о чем-нибудь надо думать, то надо будет думать о том, чем мы сможем помогать им. Людмиле Леонидовне помогать — это дело ее сына, а вот Софье и Дарье Леонидовне придется помогать нам, больше некому, и надо подумать, чем мы сможем помогать, в каком размере, как это можно будет сделать и когда.
Помню этот разговор, но не помню своего собственного душевного состояния. Знаю, что я не мог быть к этому равнодушен, хотя бы потому, что одну из трех теток очень любил. Когда узнал, что ее там, в ссылке, посадили, а потом от нее перестали приходить всякие известия, и через кого-то нам сообщили, что она умерла неизвестно где и как, без подробностей, помню, что у меня было очень сильное и очень острое чувство несправедливости совершенного с нею, больше всего с нею. Это чувство застряло в душе и — не боюсь этого сказать — осталось навсегда в памяти как главная несправедливость, совершенная государственной властью, Советской властью по отношению лично ко мне, несправедливость горькая из-за своей непоправимости, потому что, будь тетя Соня жива, первой из всех людей, кому мне довелось помогать, когда я смог что-то сделать и чем-то помочь, была бы именно она, мне не пришло бы в голову помогать никому, прежде чем я не помог бы ей. Все так. И в то же время не могу вспомнить, что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял для себя происшедшее. Лес рубят — щепки летят, так, что ли? Может быть, было отчасти что-то похожее на это самоуспокоение, сейчас кажущееся гораздо более циническим, чем оно ощущалось тогда, когда революция, переворот всей жизни общества был еще не так далеко, на памяти, и когда без этого выражения вообще редко обходилось в разговорах на разные такого рода драматические темы.