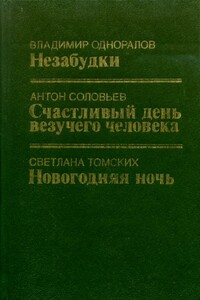— Проклятые люди! Чего они еще хотят? Ты похудела за три ночи моего отсутствия, Волчица. Надо что-то придумать. Надо тебя освободить. У нас будет своя стая, свои маленькие волчата. И я буду приносить тебе и им корм.
— Не думай об этом. Это невозможно, мой Волк. Уходи. Здесь опасно. Самое плохое, что у меня есть, это неволя. А ты свободен. И будь свободным. Но помни: хуже неволи — смерть.
— Ха-ха, — опять подал голос волк из соседней клетки, — так он и хочет этой свободы… Он не дурнее нас с тобой, он тоже хочет в клетку, чтобы его кормили на старости лет.
Я уже не обращал внимания на него.
— Я не был в неволе и не знаю, что это такое. А ты не рождена свободной, моя Волчица. Но и ты должна понимать, что страшнее неволи, страшнее смерти только одно — одиночество. С тех пор, как умер твой старый волк, разве ты не тоскуешь без него?
— Тоскую, мой Волк. И я рада видеть тебя. Но все равно — уходи. Мне будет еще хуже, если они убьют тебя.
— Тот, моя Волчица, кто сам знает одиночество, не убьет. А тот, кто убьет, пусть сам узнает одиночество. И может быть, когда-то найдется другое существо, которое посадит человека в клетку и будет приходить смотреть на него, как они сейчас приходят смотреть на тебя.
— Уходи, я боюсь.
— Хорошо, я уйду, но я буду приходить к тебе. Буду приходить так часто, как смогу…
— Или как позволят люди.
— Я не могу жить один.
— Но лучше вообще жить, чем не жить. Уходи.
— Я буду приносить тебе, моя Волчица, стихи. Вот, послушай, что я сочинил…
В соседней клетке снова раздается заливистый и злой смех. А голос-то, голос-то какой, разве так говорят настоящие лесные волки.
— Тоже мне, поэт выискался. Наслушался там где-то от кого-то в лесу, и думает, мы не понимаем… Ха…
Я даже не посмотрел на него. Я смотрел на волчицу. И она тоже смотрела на меня с тоской и мольбой, с любовью и страхом, но и с любопытством, потому что стихи она, я видел, ждала. Ей, должно быть, никто и никогда не читал стихов.
Сколько было в моих силах, столько и набрал я воздуха в легкие. И завы-ы-ыл…
Я выл, не слушая, но чувствуя, скорее даже, догадываясь, как зашевелились звери посреди этого злого забора, такого же злого, каким бываю я после неудачной охоты и даже злее, такого же жестокого, как железный зубастый капкан, что часто ставят охотники на лесных тропах, как капкан, который уродует лапы, этот забор уродует души. Годовалый тому подтверждение. Я выл и никак не мог остановиться…
Я читал стихи, которые жили во мне все это время, все эти одинокие годы…
Я рассказывал в своих стихах о том, как холодно и голодно зимой в лесу, но все же лучше жить в лесу, где ты сам себе гордый хозяин, чем в клетке…
Я рассказывал о том, как тяжело одному морозными ночами, когда только луна, чистая и сама морозная, может тебя понять. Но до нее далеко, не достать в самом длинном и высоком прыжке…
Я мечтал о том, как было бы хорошо, если бы мы вместе с моей Волчицей загоняли среди сугробов добычу…
— Перестань, у меня сердце разрывается… — это моя Волчица.
— Врет он все, врет… — это из соседней клетки.
А я читал стихи…
— Слышишь, шаги… Люди бегут сюда, много людей. Спасайся, мой Волк, спасайся…
— Сматывайся, беги, как заяц…
А я не мог остановиться.
— Беги, мой Волк, беги…
— Скоро твою шкуру развесят на дереве…
А я не хотел остановиться…
И вот — они появились.
Передний, неодетый, несмотря на мороз, стоял с ружьем в руках. Он поднял его. У меня еще было время отпрыгнуть за угол, а там сразу за забор. Я еще мог успеть. Но за какое-то мгновение, за какое-то короткое, ничтожное мгновение я вспомнил об одиночестве и… прыгнул навстречу человеку.
Пусть это будет последний мой прыжок, как только что было прочитано последнее мое стихотворение. Но это прыжок на глазах у моей Волчицы. Это уже прыжок не одинокого Волка.
Я летел в прыжке, и казалось мне, что лечу я к Луне, о которой только что читал стихи. Я не слышал выстрела, но знал, что вместе со мной умирает и моя Волчица, если не вся она, то хотя бы ее душа, и одновременно радуется и ликует, смеется в соседней клетке жалкий волк-одногодок, который никогда не станет настоящим волком.