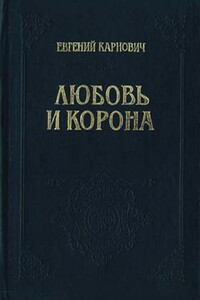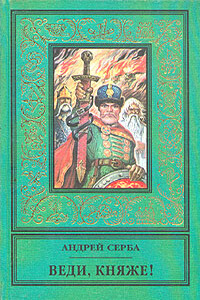— А царский трон?
— Пусть его займет Абас. Он мой законный наследник.
Казалось, небесная молния поразила царицу. Эти слова она слышала впервые. О своей сердечной потере она думала много, но о потере престола — никогда. «Как? Чтобы правил Абас, чтобы Гургендухт была царицей?.. При жизни дочери Севада дочь абхазского Гургена была бы провозглашена царицей армянского народа, а гордая Саакануйш заперлась бы на Севане, как подданная, как несчастная пленница абхазки?.. Видеть, как армянские князья окружают нового государя, склоняют головы перед новой царицей, раболепствуют и курят перед ней фимиам?.. О нет, это невозможно!» Ее царская гордость была уязвлена. Она забыла даже о своем горе. Со свойственной женщинам быстротой мысли она взвесила разницу между своей печалью и возможными оскорблениями и убедилась, что легче страдать от душевных печалей, чем терпеть унижения и страдать от оскорбленного самолюбия.
— Нет, мой славный государь, этому не бывать! Ты не должен оставаться на Севане, престол и народ ждут тебя. Ты должен вернуться в столицу, — решительно сказала она.
— Невозможно… Для этого мне пришлось бы вырвать сердце из груди… С таким сердцем, с такими думами я не могу вновь править страной.
— Ты должен пожалеть свой народ. Он подобен сейчас стаду, лишенному пастыря… Со всех сторон его преследуют волки, блеяние маток и ягнят оглашает ущелья…
— Это стадо соберет Абас. Он принесет стране больше пользы, чем я.
— Не говори этого. Не называй имени Абаса; армянский царь еще жив.
— Нет. Он умер давно. Он умер в тот день, когда униженно бежал от Цлик-Амрама.
— Не вспоминай прошлого! Умоляю тебя.
Сказав это, царица взяла руку царя и, ласково глядя ему в глаза, которые, не мигая, смотрели на луну, тихо сказала:
— Ашот, мой славный царь, мой любимый супруг, не допусти, чтобы абхазка осмеяла гордость твоей Саануйш. Позволь мне умереть армянской царицей…
— Ах, как мало знаешь ты мое горе! — прошептал царь, отвернувшись к озеру.
— Поведай, если у тебя есть другое горе. Раскрой передо мной свое сердце.
Царь не ответил. Он молча смотрел на озеро.
И что ему было сказать? Как мог он откинуть завесу, за которой была скрыта тягчайшая из его печалей? Разве мог он сказать, что все еще думает о севордской княгине, о несчастной жертве своей преступной любви, о том, что он живет ее страданиями, что ему поминутно чудятся ее проклятия?.. Как мог он восседать на престоле, думать о победах и славе, когда ему беспрестанно слышались ее стенания. Он все время твердил бы себе:
«Вся страна прославляет тебя, венчает твое возвращение, празднует твои победы… А там, в севордских горах, в мрачной темнице Тавуша томится несчастная женщина, которую покинули все, которая отвергнута всем миром и живет только своим позором, своим унижением… Она шепчет тебе: «Не смейся, когда я плачу, не радуйся, когда я страдаю!..» По какому же праву я должен снова вкушать радость жизни, если женщина, отдавшая мне свое сердце и душу, погребена заживо?..»
Эти мысли так взволновали царя, что он, забывшись, воскликнул:
— Нет, невозможно! Я не могу жить, когда она умирает…
— О ком ты говоришь? Кто умирает? — спросила царица.
Царь вздрогнул и, поднявшись с места, подал руку царице.
— Пойдем, луна уже заходит, — сказал он твердым голосом.
— О ком ты говорил? — спросила снова Саакануйш.
— О той, которая угасает в заточении, — ответил царь и прошел вперед.
Царица последовала за ним, не решаясь больше произнести ни слова.