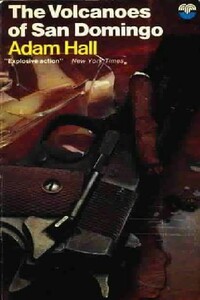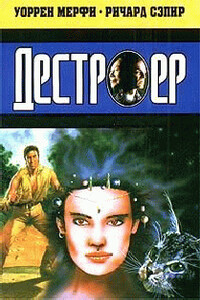— Это он?
— Да, он, и при нем адская машина, он, очевидно, ее теперь заряжает… сейчас я через скважину слышал, как он открывал свой саквояж.
— Надо донести начальнику?
— Не надо, он знает и караулит злодея у выходной площадки. Помни, Серенко, данную тебе инструкцию… — проговорил наскоро Руткевич, отходя от него, так как в купе, занятом инженером, что-то звякнуло, заскрипело.
Поезд шел полным ходом; решительная минута приближалась. Я впился глазами в противоположную площадку вагона, где в четырех-шести шагах стоял отец; сердце билось ускоренным темпом… Боже! Чем все это кончится? Как мучительно ожидание, минуты кажутся часами. «Что-то чувствует отец, не покинуло ли его обычное самообладание? Он, видимо, взял на себя самую трудную задачу — лично задержать Шиманского, подвергая при этом свою жизнь опасности», — вихрем пронеслись у меня эти тревожные мысли.
Поезд стал замедлять ход, приближались к станции Померанье.
«Выйдет он здесь или проедет до следующей станции?» Как бы в ответ на мою мысль донесся легкий скрип отворяющейся двери, и на площадку стремительно вышел из вагона первого класса Шиманский. Толчок ногой в дверь, ведущую на подножку вагона, второй, третий — все безрезультатно. Видя неудачу, инженер стал бешено вертеть за ручку двери — дверь не поддавалась, так как была заперта на ключ.
— Вы саквояж в вагоне забыли!.. — донеслась до меня фраза отца, произнесенная несколько в насмешливом тоне.
Шиманский быстро обернулся назад, при этом взгляд его скользнул по двери на буферную площадку, которая наполовину была раздвинута. Заметив вмиг это обстоятельство, инженер со страшной стремительностью бросился к якорю спасения, но в тот момент, когда Шиманский, добежав до двери, просунул уже голову вее пролет, вокруг его туловища обвились и сомкнулись две сильные руки, затормозившие дальнейшее его движение вперед.
«Мышь попалась в западню!» — сообразил я, следя за борьбой.
Две человеческие фигуры сомкнулись в одну… тяжелое прерывистое дыхание, слабый хруст костей, и, наконец, глухой звук от падения чего-то тяжелого на железную площадку вагона… Оба противника, не устояв на ногах, свалились на пол в самом пролете двери, касаясь головами самого края буферной площадки, ежеминутно рискуя вылететь на рельсы.
Шиманский, не обращая внимания на эту опасность, делал нечеловеческие усилия сползти с площадки, видимо, предпочитая лучше свалиться на полотно или откос дороги, чем оставаться на поезде, в вагоне — он ждал взрыва.
В этой ужасной борьбе был момент, когда я считал отца погибшим, видя, как он свесился за край площадки, отрывая руки Шиманского от железной вертикальной стойки зонта.
Невольно вырвался у меня крик ужаса, и я сделал шаг вперед…
— Назад, упадешь! — услышал я грозный окрик отца.
Я остановился и тут сразу заметил, что отцу удалось отодвинуться от края буферной площадки, но в тот же миг в правой руке Шиманского сверкнуло дуло револьвера…
«Убьет, убьет!.. Теперь все пропало!..» И я замер в ожидании смертельного выстрела. Прошла секунда, другая… выстрела не последовало: рука, державшая орудие, опустилась вниз, как плеть…
— Серенко, бросьте давить ему шею… иначе его задушите!
— Прикажете вязать, господин начальник?
— Да, но не очень усердствуйте… ему и так досталось от ваших медвежьих лап; он теперь в обмороке, и нам удобнее перенести его в кондукторское отделение. Почему вы так замешкались, Серенко?
— Я помогал Руткевичу разрезать саквояж.
— Ну, а снаряд?..
— Обезврежен, но хлопот с фитилем и раскрытием саквояжа было много.
— Тургасов проснулся?
— Никак нет, спят крепко, глаз не раскрывал.
При помощи подошедшего Руткевича Шиманский был перенесен на руках в служебное отделение вагона 2-го класса. Обморочное состояние все еще продолжалось; лицо Шиманского было страшно бледно, даже желто; лишь слабое колебание грудной клетки указывало на искру жизни.
— Серенко, веревки снимите долой, принесите скорее воды, сердце работает очень слабо… боюсь, чтобы обморок не затянулся, пульс все слабеет и слабеет… — с оттенком беспокойства проговорил отец.
Смочили грудь и голову водой. Лицо начало понемногу розоветь… наконец пленник открыл глаза, и блуждающий взор остановился на черной бороде Руткевича. Сознание возвращалось… он весь содрогнулся и как бы в забытьи, слабым голосом прошептал: «Все погибло»…