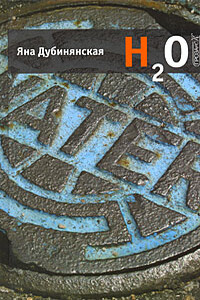— Но не мужчина, — полушепотом возразила она.
Он усмехнулся:
— Ты думаешь?
Я знаю, подумала Мильям. И сам Валар тоже знает, как знают десятки и сотни тысяч юношей по всему Гау-Гразу, которым, внезапно оказалось, уже не нужно уходить на посвящение оружием. Теперь, когда граница превратилась всего лишь в линию обороны и требует гораздо меньшего числа защитников, чем это было всегда, от века, со времен славного Тизрит-вана. Воины не ходят больше в атаки и куда реже, чем раньше, отправляются на пир Могучего, зато один за другим покидают границу и, никому не нужные, бесцельно бродят по городам и селениям…
А мальчики остаются мальчиками. Даже войдя в возраст. Даже…
Робни— сур смотрел на нее с улыбкой, запрятанной в седых прядях бороды. Как рано он поседел… и теперь ничем не выделяется среди других мужчин, доживших до седых волос. Но он всегда останется здесь чужим. И никогда не поймет множества вещей, на которых изначально стоит великий Гау-Граз…
Уже не стоит. Шатается, будто при сильном землетрясении на Южном хребте.
— Я потеряла корзину, — неожиданно сказала Мильям. — На меня напал мужчина, и я…
— Дембель, — понимающе кивнул Робни-сур. — Ну и как? Жив?
Он продолжал улыбаться. Мильям умолкла и отвернулась к очагу.
— Это потому, что ты у меня красавица. — Теплый, как пламя, голос за спиной. — Другие женщины к сорока годам — старухи, безобразные, расплывшиеся от частых родов и озлобленные от постоянных потерь. Но так больше не будет. Еще немного… Через поколение Гау-Граз станет совсем другим.
Она молчала. Не оборачивалась — хотя сильно, до озноба и дрожи во всем теле, хотелось обернуться. Не слышала ни звука. И вздрогнула, почувствовав — во второй раз за сегодняшний день и последние несколько месяцев (лет?) — мужские руки на плечах.
— Во времена перемен всегда трудно, Миль. — Жаркий шепот, щекочущий шею. — Но мы выдержим. Мы должны. Я так соскучился по тебе…
Красные искры в потухающем очаге.
* * *
Юстаб ткала.
Мильям вошла и тихо остановилась у порога, чтобы посмотреть: дочь не любила работать в ее, да и в чьем бы то ни было присутствии. Впрочем, разве можно назвать то, что она делала, таким простым, будничным словом, как «работа»?
Юстаб сидела на кошме, не склонившись над станком, а наоборот, выпрямившись и слегка откинув голову назад. Ее руки лежали на коленях, неподвижные, расслабленные — Юстаб с детства не нуждалась в том, чтобы чертить пальцами Знаки. Но больше в ней не было ничего расслабленного. Вся — певучая натянутая струна, трепещущая нить основы на станке…
Шерстяные нити перед ней тоже трепетали, ритмично подрагивали и, кажется, тоненько звучали, будто струны. Сразу несколько челноков вертко сновали туда-сюда, встречаясь, раскланиваясь, огибая друг друга, стремясь каждый к своей сокровенной цели. Готовое покрывало удлинялось на глазах, и от его узора, возникающего в непрерывном движении, было невозможно отвести глаз. Сегодня Юстаб снова ткала горы, сверкающие льдистые вершины Южного хребта: Мильям узнала очертания Альскана, Уй-Айры, Арс-Теллу… Которых ее дочь никогда не видела. Но ткала часто, с разных точек обзора, при разном освещении и в разные времена года… и никогда не отвечала на расспросы.
Черкнув друг о друга, разошлись в стороны два челнока, и на изломе горного отрога вспыхнула искра, разгоревшись золотом вслед их полету. Из-за блистающего вечными льдами хребта поднималось солнце. Подсвеченные снизу облака багряной шапкой ложились на вершины. Между склонами Арс-Теллу и Альскана пролетала на пути к затерянному в вышине гнезду ширококрылая птица…
Рука затекла от тяжести, и Мильям поставила полную корзину на пол. Такой короткий, почти неслышный звук.
Юстаб обернулась мгновенно, будто вспорхнула вспугнутая бабочка. В ее взгляде еще дрожали искорки чуда, волшебства, вдохновения. В следующий миг беззвучно щелкнул внутренний ключик, и ее лицо закрылось изнутри на привычный невидимый, но непобедимый запор.
Челноки с разноцветными шерстяными нитями доползли до краев покрывала и аккуратно легли в боковые пазы станка. Нити основы были неподвижны, словно никогда не имели ничего общего со струнами.