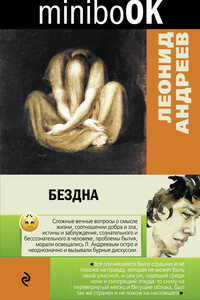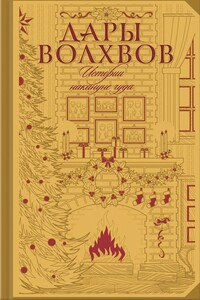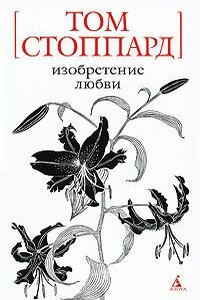К а п и т о н. А говорили, что беспорядки!
С т. с т у д е н т. Нет, не будет беспорядков. Да и зачем? Люди мы разумные и всегда можем сговориться и без драки. Это только дикари… Постойте, Капитон, вы куда?
К а п и т о н. Да надо идти, чего же тут стоять? У меня дело.
С т. с т у д е н т. Погодите… Что еще я хотел спросить у вас? Вот что: вы давно знаете Онуфрия Николаевича?
К а п и т о н. Онуфрия Николаевича? Это который про чертей?
С т. с т у д е н т. Про каких чертей?
К а п и т о н. Это он неправду говорит, что я чертей ловлю. Я чертей не ловлю. Почем, спрашивает, чертей продаешь? – да разве такая торговля бывает? Всю Москву обойди, такой торговли нету. Я раз одного только видел, да и то маленького, не более как спичечная коробка.
С т. с т у д е н т. А все-таки видели?
К а п и т о н (уклончиво). Да так, нестоющее рассказывать… Чертей продаешь! Ну и студент, ну и развязный же студент! Он у нас тоже в номерах стоял, да недолго настоял – поперли. Раков он жалеет!
С т. с т у д е н т. Раков? Почему же именно раков?
К а п и т о н. А у них, говорит, глаза сзаду посажены, и ежели его не пожалеть, так сам он себя пожалеть не может. Купил это раз корзину раков, ну совсем живых, как есть черных, ну совсем живых? И для хорошего, думаете, дела купил? Как же, от него жди. Вдруг жалко стало, в слезу вдарило: пускай, говорит, ползают не иначе, как мы. А у рака какое понятие? Его пустили, он и пополз скрозь все номера. Околоточного звали, скандал был… (Совсем мрачно.) Только протокола написать не могли: не знали, как начать. Каторги ему мало, вот он какой!
С т. с т у д е н т (смеясь). Ну, а как по-вашему, Капитон: я веселый студент или нет?
К а п и т о н. Вы-то? Да ничего себе, веселый. Только какой же вы студент? Разве такие студенты бывают? Таких студентов не бывает, хоть всю Москву обойди.
С т. с т у д е н т (возмущенно). Ну Что вы, Капитон! Как это глупо! Учиться никогда не поздно, было бы только настоящее желание. Хм! Вы, действительно, какой-то мрачный пессимист, Капитон.
К а п и т о н. Это как хотите. Но только таких студентов не бывает.
С т. с т у д е н т (расстроенно). Ну хорошо, хорошо! У меня 37 и 4, и у меня нет охоты выслушивать ваши глупости… Постойте: как будете ложиться, спину придите мне растереть.
К а и и т о н. Не умею я этого.
С т. с т у д е н т. Глупости! Я вам покажу.
К а и и т о н. Не умею я этого.
Угрюмо выходит. Старый Студент сердито раскладывает лекарства, вздыхает и, надев пенсне, раскрывает последнюю, только что написанную страницу дневника. Читает вслух, первые слова неуверенным голосом:
«8 декабря (откашливается), 8 декабря, вечер. Что такое молодость, как не весенняя песнь души, раскрывающей объятия солнцу… (что-то поправляет и читает громко и вдохновенно) раскрывающей свои объятия солнцу? Стихийно волнуется моя душа, и на крыльях фантазии уношусь я в заоблачные страны Любви и Красоты, казалось, уже навсегда закрытые для моих взоров. Как пылкий юноша, с пренебрежением отталкивающий книги, так как в себе самом он носит все богатство и красоту жизни, я уже не читаю, а пишу, творю, мечтаю»… Э, нехорошо, стихами выходит. (Поправляет.) «Я уже не читаю, а пишу, творю и отдаюсь мечтам. И как это ни удивительно (как бы засмеялись мои сибирские сослуживцы!), у меня открылось что-то вроде литературного таланта; правда, пока я ограничиваюсь только этим дневником, но впереди задумано кое-что и посерьезнее». Да, посерьезнее! (Снимает пенсне и смотрит мечтательно. И читает дальше другим, сдержанным голосом, намекающим на тайну:) «С того памятного дня (мешала выходить простуда, я выбежал тогда без калош) я больше не видел Де Ша. Пробовал писать ей и, признаться, уже написал письмо, но не решаюсь отослать: какая-то наивная, почти мальчишеская робость связывает волю. Любит ли она Те? Тогда, на мой по этому поводу вопрос, она решительно ответила – нет. Но не был ли такой ответ результатом некоторого раздражения, вызванного действительно недостойным поведением Те? Во всяком случае, с ее умом она не может не видеть»… (Снимает пенсне) Боже мой, как страшно! Подумать только, и то страшно!