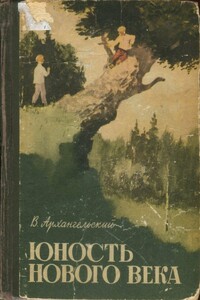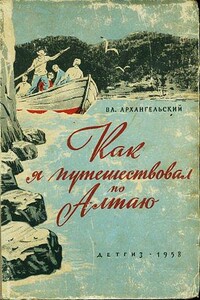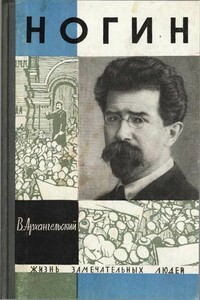Днем люди отдавались сну. Ночью не смыкали глаз. Иногда делали демонстрацию: пели «Варшавянку», когда уводили на казнь товарища. Фрунзе внушал всем, что надо вести себя достойно и в смертный час:
— Все мы со слабостями, но врагу их показывать нельзя…
Дни проходили. За ними — недели. И уже не было сил жить только ожиданием неминуемой казни.
Ни у кого не было веры, что приговор отменят: слишком одиозной была фигура смертника.
Однако он еще жил, и иногда теплилась надежда на спасение. И существовал страшный до омерзения, но размеренный быт. А он все же лучше, чем веревка на шее. Получить бы каторгу: теперь и она казалась волей.
А на воле надо бороться, и только борьба есть символ жизни!
Так и чередовались мысли: конец — и надежда, надежда — и конец. Государю он не подал прошения о помиловании и адвокату даже запретил заводить речь об этом. И просил передать родным, чтоб царю не кланялись: не снесет он такого позора! Значит, конец!
Оставалось верить в чудо? А хоть бы и в чудо! Но надежду вселил брат: с трудом он добился свидания год назад и клятвенно заверил, что отдаст все силы для его спасения. Есть партия, есть на воле товарищи, отведут они от него руку палача. И это уже не чудо, а реальная надежда!
И Фрунзе начал действовать.
Он вызвал тюремного врача, который пользовал его по поводу воспаления легких и высказал опасение о туберкулезном очаге в правом легком. Они тогда долго беседовали, и врач почувствовал расположение к молодому узнику, который был «комиссаром» у политических.
Теперь Михаил попросил его сделать фотографический снимок для Мавры Ефимовны, сестер и брата. Это было в тот день, когда пришли срывать с него вольную одежду, после первой ночи в камере смертников.
Так появилась любительская карточка: Фрунзе — в деревянном полукресле с подлокотниками на фоне наспех навешенной шторы. Последняя в жизни студенческая тужурка с двумя карманными клапанами на груди; левой рукой захвачена правая, открытое лицо, ясные глаза, и — в них нет страха.
— Зачем тебе? — удивлялись смертники.
— Мама не видела меня четыре года: это ей память о сыне, который не смог стать кормильцем. А покажет людям, так и те будут знать, как умирают большевики!..
Затем он потребовал выдать ему книги, которые были у него до суда.
— Ну и канительный смертник! — удивился начальник тюрьмы. — Неистребимый в нем дух — верит, что отведут петлю от шеи, Скажите ему, чтоб псалтырь читал да богу молился! — Но в последней просьбе отказать не посмел.
Тюремщики принесли кипу книг. Был тут самоучитель английского языка Туссена, «Политическая экономия в связи с финансами» Ходского, «Введение в изучение права и нравственности» Петражицкого, томики Пушкина, Чехова и Льва Толстого.
Он прочитал одним духом маленькую повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». И потрясла его сцена: «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу».
Бил его озноб. Но хотелось думать, что это писано не о нем. И, захлопнув книгу, понял, что — не о нем. Толстой писал не об ужасе смерти, а об ужасе жизни: член судейской палаты Иван Ильич Головин существовал, как и все вокруг него, и только притворялся счастливым. А он — вчерашний Арсений — даже с петлей на шее все еще не терял веры, потому что не похож на тысячи и миллионы таких вот Головиных. И счастье для него сейчас — какая ни на есть борьба жизнь, во имя борьбы за будущее человечества!..
Он боролся, не сдаваясь тоске, преодолевая отчаяние. И это все, что он мог сделать, сидя в кандалах в самом глухом углу Владимирского централа. А за него боролись товарищи на воле. И самым активным связным между ними неожиданно для Михаила оказалась его сестра Люша — наивная и робкая гимназистка из далекого города Верного. Не видала она ни железных дорог, ни обеих российских столиц, ничего не знала о Владимирском централе. Но, прочитав телеграмму от Моравицкой, снеслась она депешей с Константином, получила два-три адреса, отпросилась в отпуск из гимназии и ринулась спасать Михаила с той великой энергией, которую знает только молодость в восемнадцать лет. И добрым словом будет она помянута всеми, кому дорог образ кристального большевика Фрунзе.