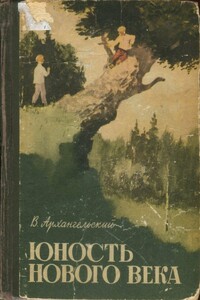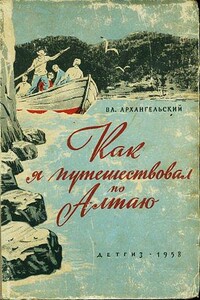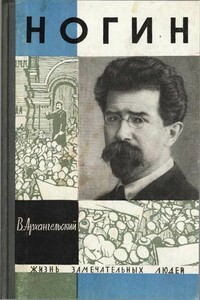— Да так, по-нарошному! А потом бежать и бороться снова.
— Я не мог бы считать тебя товарищем! — сказал Растопчин.
— Ни в коем случае, Леонид! Коль уж суждено, надо умереть, как подобает революционеру! — Арсений обнял Башмакова.
— Прошу: как поведут на казнь, спойте все «Марсельезу»! Только не «Похоронный марш». Арсений, прошу!..
Приговор вошел в силу, Леонида увели в изолятор при строгом карауле. И только Арсений подходил к его «глазку» в двери — других не допускали. Осунулся Леонид, лицо посерело, глубоко ввалились воспаленные от бессонницы глаза.
Установили дежурство, чтобы не проспать, когда поведут Леонида на казнь. Ждали больше недели, но момент упустили. В одну из ночей словно бы он крикнул приглушенно, видимо с зажатым ртом: «Прощайте, товарищи!» Арсений утром не увидел Леонида в камере. Неужели казнили воровски?
Скобенников узнал у солдата 9-го гренадерского полка: повесили тайком, в каретном сарае, палач был в маске. Долго возился с петлей, перекинутой через потолочную балку. Башмаков закричал диким голосом:
— Да вешайте же скорее, сволочи! — и сам вскочил на табуретку.
Загудела взбешенная тюрьма.
Началось с польского корпуса. Арсений дал команду начать обструкцию, передал распоряжение в каторжный корпус. Грохот, стуки, «Марсельеза» и «Варшавянка» сотрясали стены. На решетках вывесили лоскутки красные и черные: они заменяли знамена борьбы и смерти.
Матросы и артиллеристы из Кронштадта и Свеаборга, сидевшие в централе, запели песню, разученную ими в дни восстания:
Борцы идеи, труда титаны,
Кровавой битвы час настает!
На баррикады! За раны — раны!
За гибель — гибель! Смерть — за гнет!
И вся тюрьма дружно подхватила припев:
Тяжкий млат, куй булат.
Твой удар родит в сердцах пожар.
Пыл борца жжет сердца!
Вставай, народ! Сигнал на бой зовет!
Ломали табуреты, скамейками били в решетки, кулаками — в двери! Проклятье, проклятье!
Губернатор дал приказ — прекратить обструкцию силой. Начальник тюрьмы Парфенов вывел во двор военный караул. Сибиряки из 9-го гренадерского развернулись шеренгой перед окнами.
Арсений ухватился за решетку:
— К окнам, товарищи! На подоконники!
Весь второй этаж польского корпуса встал у окон против караула.
— Освободите окна! — крикнул Парфенов. — Счет — до трех!
Но никто не смалодушничал.
— Раз! — послышалась команда внизу. И сейчас же кто-то запел: «Вы жертвою пали…»
— Прекратить! — гневно крикнул Арсений. — С окон не слезать, о смерти не петь!
— Два! — отсчитывал Парфенов.
Растопчин ярко описал эти трагические минуты:
«Руки сжали прутья решетки. Но взгляд уже обращен за пределы тюрьмы. Зрительная память, как фотографический аппарат, четко фиксирует то, что видят в последний раз глаза. Там, далеко, за Клязьмой, заштрихованная косыми нитями дождя, уходит за горизонт черно-синяя туча с густыми, клубящимися как пена белыми краями. На ее фоне белеет колокольня, к которой жмутся крестьянские избы, окруженные пестрыми полосами пашен. Искрами сверкают на кресте сельской колокольни вырвавшиеся из-за тучи солнечные лучи.
Взгляд поднимается к высокому чистому небу. В бездонной синеве его спокойно плывут стайки снежных облаков с тающими прозрачными краями.
Рождается ощущение связи с этим бесконечным движением в незнающем границ просторе.
Резкий звук команды возвращает к земле:
— Отставить! К ноге! — и сразу же: — Налево, за мной!
Быстрый топот солдатских шагов, глухой грохот их по лестнице, лязг засовов и… тишина!»
Из двух камер взяли людей в карцер. По остальным клеткам передавалась команда Арсения:
— Обструкцию прекратить, но шуметь; о товарищах хлопочем, они скоро вернутся!
Действительно, они возвратились через два часа. И хоть запретили всем прогулки, это была победа. Арестованные выполнили последнюю просьбу Леонида Башмакова: вспомнили о нем не «Похоронным маршем», а призывом к борьбе.
Были еще две попытки побега.
В одной участвовали матросы из Свеаборга. В чудовищных условиях делали подкоп под тюремную стену. И почти довели дело до конца. Но случилась беда: проезжал по тюремному двору грузчик с тяжелым возом дров и провалился в траншею подкопа, не закрепленную подпорками.