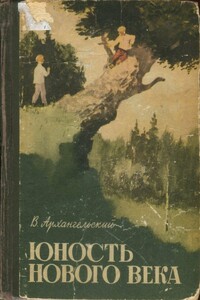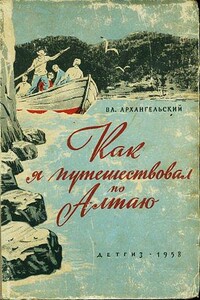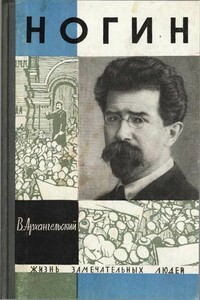В серый фон деревенских построек — приземистых, со слепыми окошками и соломенными крышами — кой-где были вкраплены домики понаряднее: еловые, сосновые, рубленные в лапу, с железным петушком на коньке, синими или белыми наличниками и даже с мальвами перед тремя оконцами по фасаду.
В таких домиках жили мастера, подмастера и те из рабочих, которые всей семьей из поколения в поколение тянули лямку для Гарелина, Бакулина, Дербенева или Зубкова и пытались отгородиться от голытьбы и подчинить свою жизнь одной цели — выйти в люди.
Ведь в городке не было пришлых фабрикантов, с фамилиями, резавшими ухо русскому мужику, — из немцев, французов и англичан. Все были свои, тутошние, из окрестных уездов, как, к примеру, Мефодий Гарелин — один из самых богатых. Старики знали его с детских лет, кличка ему была Мефодка: мужик полуграмотный, с противной ехидной рожей и гундосый. И был он как бельмо на глазу: гляди, куда вылез, рукой не достанешь! А мы чем хуже? Копи грош, к нему — целковый, по рублику, и — сотня! А там, бог даст, и свое заведение пустим в ход!
И, рассуждая так, иной раз начисто забывали старую поговорку: «От трудов праведных не наживешь палат каменных!» И далеко не каждый скопидом мог так хитрить, изворачиваться и грабить, как проклятый Мефодка!..
Бездомные ткачи ютились в фабричных «спальнях».
Так назывались рабочие казармы, обычно расположенные в одном из углов фабричного двора. Были «спальни» для холостых и для семейных. И трудно сказать, где хуже. У семейных и совсем без просвета. Вся жизнь и постылая нудьга соседа рядом, на глазах, за грязной пестрой ситцевой занавеской. Одно утешение, что у них есть отдельный бокс, как вагонное купе. И хоть спят семейные на двух этажах, иной раз навалом, если детей куча, зато своя лампа, свой рундучок, свои три стены из филенки и мутное от копоти окошко.
А у холостых — сарай на сотню голов; все нары, что тянутся по стенам и посредине, видны от края до края, как в огромной тюремной камере. И есть у тебя только одно место, где можно лежать после смены, в тесноте, обычно на боку, чтобы ненароком не приспать тщедушного соседа. Койкой это место не назовешь: вонючий соломенный матрас, подушка, набитая сеном, и всякое тряпье, хуже, чем у цыгана в полотняной хибаре. И отоспаться можно только в праздники, когда ткачи и прядильщики разбегаются по родне в ближайшие деревни.
Непривычный человек просто чумел в «спальне» от жуткого ералаша: в одном углу балалайка, в другом — тульская или саратовская гармонь; где-то горланят песню во весь голос; кто-то плетет байки или сказки.
За порядком наблюдал «хожалый», обычно из отставных унтеров, он глядел, чтоб не было поножовщины или кулачной драки.
Когда же она возникала, он щедро раздавал оплеухи и той и другой стороне, и порядок восстанавливался. А в иные дни смотрел, чтобы не шастали мастеровые по чужим койкам, не шептались по углам, в матерной брани не касались Христа с богоматерью и спать ложились после дневной смены в десять вечера: после этого часа на улицу выходить не полагалось.
Но на Руси было давно заведено — драть с живого и с мертвого! И хожалый — ночь не в ночь — открывал дверь из «спальни» за гривенник. Этим и пользовались гуляки и… подпольщики. А уж кому тут было невмоготу, те отрывали от своей «дачки» два-три рубля в месяц и снимали угол у хозяйки в Голодаихе, Яме, Рылихе или Посикуше…
Поздним вечером городок преобразился. Над ним нависло зарево. Мрачные фабрики, залитые яркими огнями, превратились в сказочные дворцы. Из каждой трубы, как из пушки, валил седой и розовый дым. Над Уводью клубился туман. Гул и грохот стали еще громче.
Близко к полуночи Фрунзе пришел к Дунаеву. Евлампий Александрович уже слыхал с нем. Но встретил сухо. И только по мягкой интонации резкого голоса можно было судить, что он рад приезду нового агитатора. Вообще-то он был даже суров по внешности — с неулыбчивый, острыми глазами на рябоватом лице, побитом оспой. Глаза к тому же прятались за очками, плотно прилегавшими к надбровным дугам. Был он ростом не выше Фрунзе и худ, с тонкой длинной шеей, в движениях неспокойный и угловатый. И слова бросал, словно в раздражении. Через неделю-другую Трифоныч понял, что на Дунаева — товарища доброго и преданного — наложили такой отпечаток трудная жизнь подпольщика и гнетущий быт тюрем.