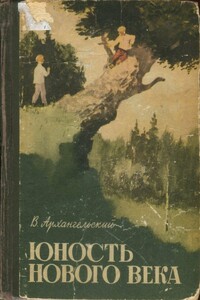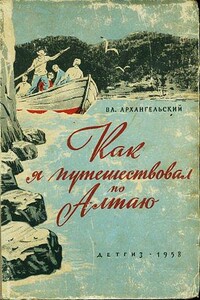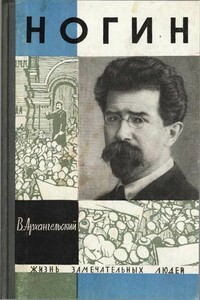Командарм работал лихорадочно: выступал перед частями, идущими на фронт из центральных районов России; проверял учебные стрельбы новобранцев на полигоне всевобуча; на рабочих митингах призывал напрячь силы, чтобы больше дать армии одежды, сапог, снаряжения. И торопил военного инженера Карбышева, который возводил укрепления на Волге от Самары до Сызрани. И рассылал в Москву и в штаб Восточного фронта требования о присылке резервов, чтобы укрепить действующие части и сформировать новые полки.
«Но кто-то невидимый мешал командарму Фрунзе, — вспоминал Сиротинский. — Боевые припасы в его армию поступали медленно и в смехотворно малых количествах. Новые формирования не утверждались. Никакого снаряжения и обмундирования для армии нельзя было добиться… Фрунзе чувствовал чью-то злую волю. Кто-то упорно не желал усиления его армии и мешал повышению ее боеспособности. Но Фрунзе не сдавался. Вместе с В. В. Куйбышевым он упорно перестраивал и укреплял свою армию».
Злым духом Фрунзе — объективно и субъективно — был Троцкий. Он долго не хотел понять, сколь грозен для Красной Армии вооруженный до зубов союзниками адмирал Колчак, и главную опасность видел на юге и на севере, где действовали Деникин и Юденич. Поэтому армию Фрунзе он считал заштатной, а опасения командарма-4 — полетом фантазии. Кроме того, он признавал авторитет военных специалистов и не желал видеть во Фрунзе пролетарского полководца нового типа. Да ведь и назначение этого «штафирки» произошло вопреки его желанию…
Не рассчитывая получить поддержку у Троцкого, Фрунзе написал письмо в ЦК РКП(б). Он высказал мысль, что Колчак — главная опасность. И получил в ответ письмо Владимира Ильича, которое ориентировало партию и страну: Колчака за Волгу не пускать, Волга должна быть советской!
При первом же выступлении Колчака в районе Камы Фрунзе вызвал Чапаева и Фурманова. Он решил держать в своем резерве 25-ю дивизию во главе с Чапаевым. Но тот ужасно рассорился со своим комиссаром. Их надо было помирить и четко определить их новую задачу.
Поругались Чапаев и Фурманов наотмашь, сплеча, не жалея своей дружбы. «Распалились до того, что похватались за наганы. Но вдруг поняли, что стреляться рано — одумались, смолкли», — записал Фурманов. Отношения изменились, и экспансивный Чапаев написал рапорт об отставке. И дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему для доклада. Комиссар, в свою очередь, послал телеграмму: «Не разрешайте Чапаеву приезжать без меня!..» И вот друзья-враги в Самаре.
«Звоним из штаба на квартиру:
— Михаил Васильевич дома?
У телефона жена Фрунзе Софья Алексеевна.
— Дома. Лежит больной, но вас примет. Только, пожалуйста, недолго, не утомляйте его…
Приехали. Входим. Михаил Васильевич, бледный, замученный, лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, усадил около, стал расспрашивать.
Говорит о положенье на фронте, о величайших задачах, которые поставлены нашим восточным армиям, справляется о наших силах, о возможностях, рассказывает про Москву, про голод северных районов, про необходимость удесятерить наш нажим, столкнуть Колчака от Волги. Говорит, говорит, а про наше дело, про ссору нашу ни слова — будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся сами заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего не выходит — он то и дело уводит беседу к другим вопросам, переводит разговор на свой, какой-то особенный, нам мало понятный путь. И когда рассказал, что хотел, выговорился до дна, кинул нам, улыбаясь:
— А вы еще тут скандалить собрались? Да разве время, ну-ка подумайте… Да вы же оба нужны на своих постах — ну, так ли?
И нам стало неловко за пустую ссору, которую в запальчивости подняли в такое горячее время. Когда прощались, мы чувствовали оба себя словно прибитые дети, а он еще шутил, напутствовал:
— Ладно, ладно… Сживетесь… вояки!
Мы с Чапаевым уходили опять друзьями — мудрая речь дорогого товарища утишила наш мятежный дух».
— Вы не встречались ли с Колчаком, Федор Федорович? — как-то спросил Фрунзе. — Что за человек? Я ведь к тому говорю, что война не просто стихия. Она может быть и очень целенаправленным процессом, если ее ведет талантливый полководец.