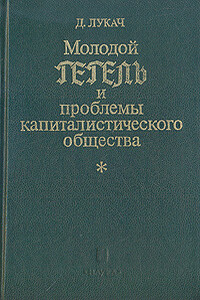***
Развитие литературной теории в послевоенное время по существу принесло с собой лишь дальнейшее расширение уже знакомых нам тенденций. Единственное литературное течение, получившее известное распространение, — «новая предметность» («neue Sachlichkeit») — покоится на весьма эклектической фундаменте.
Буржуазная литературная теория послевоенного времени приносит с собой нечто новое лишь в том смысле, что она в возрастающей мере фашизируется. Эта фашизация обнаруживается в развитии уже знакомых нам фигур предвоенной эпохи (Стефан Георге, Гундольф и Пауль Эрнст), которые быстро перерабатывают свои теории в направлении фашистского «активизма», а также в эволюции ряда буржуазных философов, которые столь же быстро из неокантианцев преображаются в фашистских неоромантиков (Боймлер) или неогегельянцев (Глокнер).
Крайне важно также понять, какую роль играют многие из мелкобуржуазных писателей молодого поколения в отношении этого процесса фашизации буржуазной литературы в Германии. Здесь на сцену выступает новый тип идеологов и писателей. Тов. Куусинен в своей речи на ХIII пленуме ИККИ правильно обратил внимание на то обстоятельство, что широкие слои германской буржуазии и мещанства благодаря войне и послевоенному кризису потеряли свои материальные, а потому и старые идеологические устои. Эти слои в довоенное время жили в обеспеченных условиях и сохраняй традиционную консервативную идеологию (мелкие чиновники, служащие, студенты). В этих слоях теперь идет глубокий процесс брожения. Их старый, «прочный», скрепленный традициями мир в период кризиса распался. Послевоенный капитализм наполняет их отвращением и ужасом. Однако единственная общественная сила, которая в состоянии поставить на место загнивающего капитализма новый общественный строй — пролетариат — из-за того, что он был расколот социал-демократией, на смог завоевать мелкобуржуазные массы на свою сторону. Социал-демократия своей политикой прокладывания пути фашистской диктатуре возвела барьер между мелкой буржуазией, с одной стороны, и революционным пролетариатом — с другой. Общественное бытие мелкобуржуазной интеллигенции, естественно, приводит к тому, что она легко поддается националистической демагогии. Наиболее высокостоящая в интеллектуальном и моральном отношении часть этого слоя усваивает идеологию пролетариата и входит в революционное движение (Шерингер, Людвиг Ренн и др.). Значительная часть остается в плену своей старой идеологии, мечтает о возврате «золотого» времени Гогенцоллернов и примыкает к каждому новому реакционному течению. Но между ними остается широкий слой колеблющихся, которые мечутся между буржуазией и пролетариатом. Эрнст фон Саломон в своем романе «Die Geachteten» дает интересное описание этого слоя и его колебаний. Бодо Узе, бывший приверженец союза «Oberland», ставший затем национал-социалистским редактором, а ныне коммунист, ярко вскрывает в своем автобиографическом романе «Soidner und Soldat»15, какие препятствия общественного и. идеологического характера мешали даже субъективно наиболее честным представителям этого слоя присоединиться или хотя бы близко подойти к революционному рабочему движению, С такой же ясностью он указывает, каким образом эти затруднения и колебания могли быть преодолены.
Из реакционного слоя помещичье-буржуазной интеллигенции в значительной мере рекрутировались в послевоенный период руководящие элементы появлявшихся в изобилии фашистских групп и группок («союзов»). Слои колеблющейся мелкобуржуазной интеллигенции поставляют «массы» в эти группы. Окрашенные в самые различные цвета, одни из них эволюционируют к фашизму, другие ищут путей к пролетариату. Наполовину или целиком интеллигентские фашистские секты играют очень большую роль в выработке фашистской «теории» литературы. Эти фашистские и полуфашистские группы до начала мирового экономического кризиса — за некоторыми исключениями — не примыкали к национал-социализму. После прихода Гитлера к власти эти группы в большей своей части примкнули к национал-«социалистам».
Характерной внешней особенностью идеологии фашистских и полуфашистских групп является их стремление к «синтезу» обоих течений реакционной литературной теории довоенного периода, о которых мы уже говорили выше: к соединению Бартельса со Стефаном Георге, запахов провинциального хлева и берлинских духов, к «синтезу» отсталости и упадка.