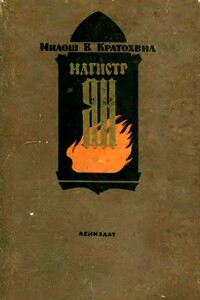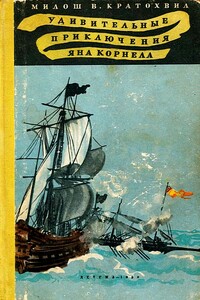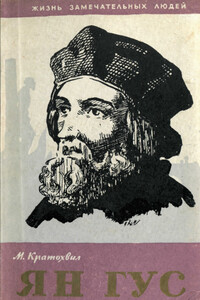Домой он вернулся еще более воинственным, чем был до этого, однако эпоха уже начала свою воинственность утрачивать. Политика отныне стала прерогативой далекого имперского совета. Политики спорили, следует ли им участвовать в заседаниях или бойкотировать их; начались распри между старочехами и младочехами; все (по крайней мере так казалось Франтишеку) измельчало, выродилось в грошовое торгашество уже без великолепных народных сходок и без… тюрем!
И тогда энергия начала искать выхода в авантюрах более скромных и приземленных. Когда во время сельской охотничьей страды с ее разудалым «последним гоном»{[18]} какого-нибудь торгаша или барышника заносило на бричке в кавановский трактир, то наутро протрезвевший хозяин обнаруживал, что бричка стоит на кровельном коньке двухэтажного подворья Кавана. Вся челядь приходила на помощь, чтобы распотрошить бричку, по частям втащить через чердак наверх и снова собрать ее на крыше, а Франтишек тем временем знай наливал в распивочной постояльцу рюмку за рюмкой. В другой раз избиралась подходящая жертва, склонная к возлияниям, и когда дело доходило до немоты, опьяневшего молодца стаскивали в придорожную канаву, на ладони раскинутых рук нашлепывали самое мерзкое, что только может быть, а потом уже достаточно было пощекотать нос прутиком, чтобы рука начала елозить по лицу, оставляя на нем следы своей пригоршни. Но все это были уже лишь жалкие заменители; не помогала даже выпивка, тем более что выпитое на Франтишека Кавана действовало мало… Лишь однажды вспыхнул отблеск славы былых времен — это когда, запрягши две пары великолепных лошадей, Франтишек вез украшенный лентами камень с горы Ржип для фундамента Национального театра. Он тогда остановился на тракте перед своим подворьем, сгрузил с телеги округлый камень поменьше и велел закатить его до поры в сарай. «Я попросил выломать его вместе с тем, — пояснил он жене, — они — братья. И этот ляжет на мою могилу».
Так Вацлав Каван опять пришел к тому, о чем не хотел думать. Вновь уклонился к воспоминаниям о живом. Собственно, его, Вацлава, долг закрепить все это на бумаге. Не ради памяти о предках, ведь это часть жизни родного края, а не только его собственной. Сделать это ему следовало уже хотя бы потому, что он историк; несколько набросков у него уже есть, имеются и кое-какие документы — протоколы того процесса, немного писем, хотя сам Франтишек Каван никому не писал. А главное, конечно, сыну надлежало вовремя исповедать отца. Но когда? По окончании учебы они виделись так редко и всегда мельком. Кроме того, ему казалось, что вскоре отец начал от него отдаляться. Словно отеческие чувства к сыну ослабевали из-за инстинктивного предубеждения селянина в отношении образованного горожанина, хотя в то же время Франтишек «своим Вацлавом» гордился. Но он, Вацлав, должен был это преодолеть, должен был найти время, должен был… должен… А теперь, может быть, уже поздно.
Остается, конечно, мать. Та знает и помнит даже больше отца. Но Вацлав уже заранее признается себе, что не бывать и этому, что не доведется ему говорить с матерью о таких вещах. Сейчас будут заботы более насущные, и они уже не переведутся, напротив, они будут все прибывать и прибывать.
Пожилые супруги в другом конце купе тем временем умолкли. Каван даже не заметил когда. Теперь они сидели так же тихо, как и прежде, глядя в разные стороны, в пустоту.
В Праге Кавану не понадобилось даже покидать вокзала. Он тут же купил в кассе билет и пересел на пассажирский поезд.
И вот началось то, приближение чего он предвкушал с момента выезда из Вены: внезапно ему предстал родной край, на этот раз подернутый тенью смерти, но от того еще более властно притягивавший к себе; родной край, который завладел Вацлавом с первого оборота вагонных колес и который ни на секунду не отпустит его от себя, не даст перевести дух. Он раскинулся от далекого отчего дома вдоль всего железнодорожного полотна до самой Праги, потому что любой вид из окна на любом отрезке пути ему знаком, он сросся с этим краем, с ним связаны воспоминания детства, отрочества и юности; это нерасторжимая, неизменно повторяющаяся цепочка впечатлений, центр тяжести которой всегда находился и находится поныне в усадьбе Кавана, в трактире Кавана; цепочка, на время отпускавшая маленького, а потом и подросшего Вацлава в Прагу на учебу, но всякий раз снова притягивавшая его обратно — на воскресенья, на каникулы. И эта дорога, это железнодорожное полотно — как бы ее продолжение, ознаменованное давнишним радостным предвкушением, нетерпением, когда же наконец поезд въедет в прочерченный несколькими колеями вокзал окружного города, где, к великой досаде Кавана, остановится на несколько минут, а потом, слава богу, отделится от длинного серого перрона, проедет мимо неприглядной вереницы кралупских домов, обращенных к железной дороге тыльной своей стороной; и вот уже колея прижимается к реке, поезд проезжает через три туннеля — короткий, чуть подлиннее и длинный, и вскоре амбар на краю предпоследней из выходящих к полотну деревень наклонит к поезду свою рыжую кровлю, на которой черными черепицами выложено слово «Привет»; а потом продолжительность оставшегося пути уже не поддается измерению в минутах, а лишь разнообразной порослью на геброунском косогоре, белеющем вдалеке своим обнаженным известковым боком, срезанным во время прокладки железнодорожной насыпи; а справа отсчитывают последние десятки метров луговины на берегу Влтавы, луговины, о которых Вацлав в точности знает, кому из селян какая принадлежит, вторая и четвертая — их, Каванов; потом еще виадук, и поезд замедляет ход…