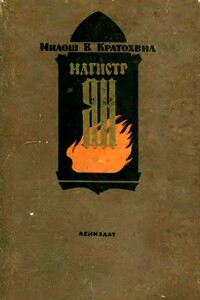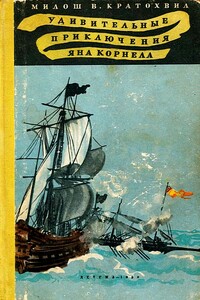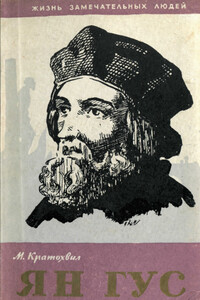Но поскольку предугадать ответы было невозможно, ибо они ожидали Кавана там, куда он ехал, то сознание всеми своими здоровыми силами снова и снова противилось мыслям об этом, хотя избавиться от них полностью оно, конечно, не могло. Тем самым оно, вероятно, отодвигало печаль и боль в самые дальние уголки души, поскольку боли противится любой здоровый организм, любая натура, причем чувствительная гораздо активнее, чем стоическая и холодная.
Тяжелее всего будет, подумал Каван, когда он пересядет в Праге на пассажирский поезд, чтобы проехать последние тридцать два километра до Млчехвостов. На том перегоне ему знаком чуть ли не каждый метр дороги, по которой он ездил все годы своей учебы в Праге. Там будет уже все — и особенно сейчас! — тесно связано с домом, с детством, с отцом. Отсюда все это еще далеко, и пейзаж за окном еще чужой, ни о чем не говорящий.
Мужчина и женщина в другом конце купе неожиданно заговорили. Вдруг, ни с того ни с сего. Но раскрыв рты, они говорили уже без умолку. Точно у них оттаяли губы и теперь с них слетали фраза за фразой — продолжение какого-то разговора, надолго прерванного какими-то внешними помехами. Они говорили, умышленно понизив голос. Каван едва распознал, что говорят они по-немецки, но темп речи был стремительным, и даже самые приглушенные шипящие выдавали, что происходит ссора. Спор явно был затяжным и ожесточенным, раз он после столь продолжительной паузы вспыхнул с новой неослабевающей силой. При этом лица говоривших сохраняли заученно-спокойное выражение, и только брошенный порою на Кавана взгляд свидетельствовал, что идет борьба, старательно скрываемая под личиной благоусвоенной холодной невозмутимости.
Только теперь Каван стал присматриваться к обоим попутчикам, стараясь делать это как можно незаметнее. Мужчина был бел как лунь, волосы и усы выделялись на старчески розовой коже своею молочною белизной. В чертах его было нечто младенчески мягкое, лицо можно было назвать красивым. И лицо сидевшей напротив женщины, которая, по всей видимости, была несколько моложе мужчины, хранило явственные следы былого очарования. На ее покрытых нежным пушком щеках еще почти не было морщин, и лишь дряблая кожа на шее выдавала возраст; впрочем, шея была перехвачена узкой черной бархаткой с золотым медальончиком. Зато высокие дуги бровей сохраняли царственную величавость, а глаза, темные и блестящие, были лишь чуть-чуть прикрыты ослабшими с годами веками.
И все это из-за ссоры производило какое-то неприятное впечатление, казалось неуместным. Дело было не в самой размолвке, уже вполне очевидной, а в том, что это была ссора двух пожилых людей, которые, несомненно, связаны друг с другом до гробовой доски и лицам которых пристало бы, более того, должно было быть присуще выражение душевного равновесия, умиротворенности и достигнутой наконец взаимоприспособленности. Зачем еще сейчас, на склоне дней, они отравляют себе жизнь? Ведь все равно им уже не избавиться друг от друга, разве что одним-единственным способом. Но они погружены в свои дрязги и им не до размышлений о смерти. Что, если он скажет им, что едет к умирающему отцу? В тот же миг он опять перестал думать о них; ему вдруг представился отец в гробу. Вернее, он пытался представить себе отца в гробу, но воспоминание о деревенском здоровяке с развевающейся седой бородищей, краснолицем и полном жизни, воспротивилось искусственно вызванной в воображении картине, в прошлом абсолютно ничем не предуготовленной. За всю свою жизнь Франтишек Каван, кажется, ни разу не болел — во всяком случае, его сын Вацлав не помнит, чтобы отец когда-нибудь лежал в постели, усмиренный недугом. Зато воспоминаний, с избытком насыщенных жизнью, нахлынуло превеликое множество!
При своей небольшой усадьбе Франтишек Каван держал трактир. Домашним хозяйством и полем занималась жена. Вынуждена была заниматься? Нет, но коль скоро она, еще живя в родительском доме, приохотилась к этому и знала в этом толк… Да, собственно, и трактир тоже был на ней, потому как Франтишека интересовал не трактир как таковой, а посетители и постояльцы. Весь второй этаж дома был отведен под комнатушки — одна подле другой — для скупщиков хмеля, которые наезжали в Подржипский край главным образом из Саксонии. Каждый уже знал, что у Каванов он всегда найдет ночлег с немецкой лютеранской библией возле подсвечника на ночном столике. В отличие от жены, Франтишек Каван так никогда толком и не выучился немецкому, но и того, что он знал, хватило, чтобы со временем понимать почти все, о чем толковали саксонцы; главное, они приносили новости о том, что делается на белом свете. Целыми вечерами говорили о политике. О политике говорилось и тогда, когда приезжали гости из Праги. В иные годы — регулярно, в другие — реже, потом опять приезжих становилось больше — в зависимости от того, как обстояли дела в Чехии, в Праге и в имперском совете в Вене. Трактир Кавана постепенно становился чем-то вроде политического центра Подржипщины. Как зеницу ока берег Франтишек один из шести массивных стульев со спинками, вырезанными в форме липовых листьев, на котором будто бы сиживал Гавличек! Но, как ни странно, охотнее всего гости беседовали опять-таки с женой Франтишека. И откуда это в ней взялось, ворчал Франтишек, ревнуя и в то же время гордясь, ведь обо всем умеет, чертовка, поговорить… Стоило ей подсесть к столу, как Франтишек тут же умолкал, будто дара речи лишался, и горше всего было то, что никто этого даже не замечал, обходились и без него… Пожалуй, самой яркой порой его жизни было время, когда в шестидесятые годы он бок о бок с графом Турн-Таксисом помогал организовывать национальную манифестацию на горе Ржип, за что потом вместе с Турн-Таксисом его судили и осудили, хотя, конечно, на сходке он не произнес ни слова. Но несколько месяцев он, естественно, все-таки отсидел и, что было не менее естественно, отказался подать прошение о помиловании и отмене приговора.