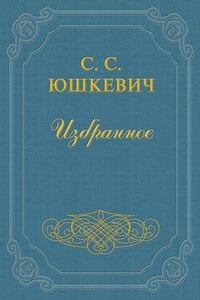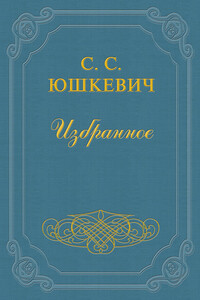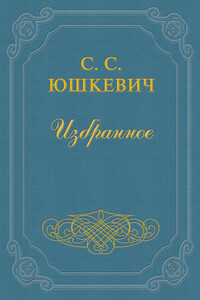Теперь Нахман подвигался по пустынным белым улицам, весь под влиянием этих добрых людей, и безотчетно радовался, в предчувствии чего-то славного, крепкого, что поставит его твердо на ноги.
И мысли тянулись у него легкие, как после большой усталости, и думалось о Мейте, которая, – он знал, – поджидала его.
– Она не спит, – говорил он себе, более довольный, – я обрадую ее.
Когда он вошел в темную комнату и стал искать спичек, до его ушей донесся шепот, и он не сразу узнал голос Мейты.
– Это вы, Мейта? – тихо спросил он, почувствовав, что дрожит.
– Я, Нахман… Фрима поступила в «дом», Симу едва спасли…
– Кто вам сказал? – с ужасом спросил он.
– Фейга, – шепнула Мейта. – Фрима в «доме» со вчерашнего дня. Ее уже видели.
– Дина знает?
Он нашел в темноте ее руку и невольно сжал ее. Мейта не ответила, и оба стояли без слов, погруженные в страх.
– Я боюсь, – шепнула вдруг Мейта, легонько притягивая его к себе, – как я боюсь!
– Чего вам бояться, – тихо говорил он, усаживаясь на кровать, – я ведь здесь! Я ведь здесь, – машинально повторил он, усаживая ее рядом с собой.
Они опять замолчали, все более волнуясь оттого, что были так близки в темноте. И как будто что-то лучезарное, прекрасное таилось подле них и теперь не могло уже прятаться, – счастье раскрылось. Мейта вдруг обняла Нахмана и испуганно шепнула:
– Я уже не могу, Нахман, я люблю вас, люблю! Я боюсь, – я люблю… Не сердитесь! Я не буду вам в тягость, я буду работать, работать…
Нахман слушал, и кружилась его голова. Теплые слова, чистые, добрые, после ужаса согрели его душу, и, не отвечая, он нежно прижимался к Мейте, ожидая ее признаний.
– Весной мне будет шестнадцать лет, – шептала она. – Я поступлю на фабрику… Я буду работать, помогать вам… любите меня!
И когда, отдавшись своей радости, он отдал ей душу и стал целовать, она с трепетом спросила:
– Вы еще любите Неси? Вы любите?
И он отвечал ей, кивал головой, обнимал ее, и они сидели до утра, пока бледный свет дня не разогнал их…
Они пьянели от счастья.
Жизнь Нахмана вдруг наладилась. Как будто до сих пор он ходил с повязкой на глазах, натыкался на острия, – внезапно повязка упала, и открылся весь белый, светлый, прекрасный путь. Только теперь, с раскрытием тайны, ясно стало, как хорошо быть человеком и иметь эту неистощимую и ненасытимую способность радоваться всему. И для Нахмана и для Мейты как бы наступило второе детство, и в иных гармонических красках и звуках, в иных чудесных видениях проходило окружающее, и оба с трепетом, словно познавали тайну истины, принимали все, что шло на них и от них.
Они стали мягче, чувствительнее. Меланхоличное проникло в их предвидение будущего. Оно рисовалось им таким сладостным, и ярко чувствовалось, как оскорбительна, нечеловечна была их прежняя жизнь.
Старуха Чарна своеобразно приняла их любовь, рассказала, смеясь, историю о царской дочери и славном дурачке… Тогда стало совсем легко, и жизнь потекла здоровая, хорошая. Нахман работал весь день у Хаима, совершенно счастливый, что научается ремеслу, и, несмотря на то, что перед ним все больше раскрывался ужас жизни рабочих, – только страстнее рвался войти, как товарищ, в их среду. Новая, неведомая мощь чувствовалась ему в этих людях, начинавших понимать причину своего рабства, и он старался все ближе сходиться с ними. Он зажигался от их разговоров, и развивалась какая-то непобедимая охота жить, вмешиваться в жизнь, и теперь ему было весело от всего. Весело было у Хаима, и занятно, и интересно, хотя в комнате вечно раздавались вздохи больной Голдочки; необыкновенным казался Хаим и приходившие, – и о них и о том, что сам чувствовал, вечером обсуждалось с Мейтой.
В напряжении всех сил своих жила девушка. Чудесной радостью начинался день, весь заполненный любовью; чудесной радостью, начинался вечер, когда приходил Нахман… Словно все сказки, рассказанные Чарной, выделили из себя самое драгоценное и нежное и превратились в правду, – так переживала она действительность. Она не узнавала прежних людей, не узнавала своей комнаты, двора и наслаждалась, будто перенеслась в другой город, полный чудес. Иногда приходили Шлойма, Даниэль, и тогда Нахман сиял от радости. Мейта усаживалась в стороне и, как ребенок, почтительно внимала разговорам. Она любила слушать Шлойму, Даниэля, но больше всего ей нравилось то, что говорил Нахман, и за его звонкий голос, за блеск в глазах, за жесты ей хотелось целовать землю, на которой он стоял… Она уходила к матери, изнемогая от волнения, и та добрым голосом рассказывала ей, как длинна и разнообразна жизнь.