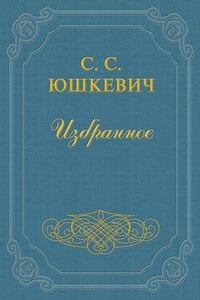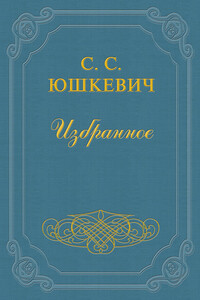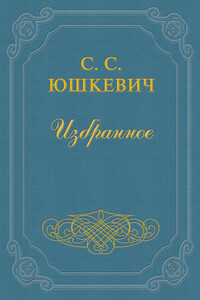Над ней будут издеваться, она не опустит глаз перед врагом и смело скажет: я еврейка. Ей хотелось сейчас же всех пыток, придуманных для мучений, и до боли сжималось сердце за то, что она еще не потерпела.
– От этого кружится голова, – говорил Нахман, но не нужно опьяняться. Наша родина здесь. Сила не в бегстве, а в борьбе!
Он радостно оглянулся, и крепкая любовь звучала в его голосе, когда он сказал:
– Вы видите небо, Мейта, – оно черное. Но это черное небо я люблю больше солнца, которое светит «там»… Пройдет ночь, и наступит день. Но день будет здесь, где мы столько страдали, где победим… Мы должны победить, Мейта! Народ не всегда бывает игрушкой…
– Отчего же мое сердце так бьется? – возразила Мейта. – Я горю и готова пойти на костер.
– И я готов, Мейта, но нужно знать, где он. Если бы я уже знал… – Тоска, давно сдерживаемая, и прорвавшееся страдание души послышались в его словах…
Дождь безнадежно звенел… Он звенел сзади, впереди, догонял, обгонял и будто преследовал, чтобы погасить мечту.
Он звенел безнадежно…
Теперь Мейта проводила дни, как во сне. Время ее по-прежнему проходило в труде, но в душе она переживала что-то нежное, блестящее, и минуты проходили, сотканные из порывов. Она просыпалась с улыбкой, улыбалась комнате, двору, и все милые образы, которые были ей так дороги, целый день окружали ее.
Казалось ей, – лишь только она скажет Нахману о своей любви к нему, и он ответит ей тем же, протянутся нити к родине, к Дине, и сотворится мост для перехода евреев на родину, где они будут счастливы и свободны.
Все девушки превратятся в работниц, рассыплются по полям, и жизнь станет пляской радости. Каким-то непостижимым чудом все, что она переживала, претворялось в любовь, и как в реке нельзя отличить образовавшие ее воды, так и она не знала теперь, какой любовью любит Нахмана, какой родину, Дину…
К Дине ее неудержимо влекло, и, разговаривая с Нахманом, она часто упоминала о ней.
Она представляла ее себе страдающей и непреклонной и хотела бы отдать себя всю на служение ей. И оттого, что чувствовала себя недостойной заговорить с ней, готова была пасть ниц, лишь бы Дина ее заметила, ободрила…
Часто вечером она подстерегала Фейгу, мечтая что-нибудь разузнать о Дине, и была недовольна холодностью Фейги к сестре.
– Если бы у меня была такая сестра, – сказала ей однажды Мейта, – я не отходила бы от нее.
Это было в конце ноября, вскоре после того, как старуху Симу подобрали на улице, сбитую с ног пьяным тачечником. Девушки сидели в комнате Нахмана, и Фейга торопилась, чтобы тот не застал ее.
– Некогда, Мейта, – ответила Фейга. – Мы любим Дину, но нам некогда показывать любовь. Вот осень прошла – монотонно продолжала она, – и зима гонит из фабрики на улицу, из улицы на фабрику. Мать все не встает, и ноги ее остаются толстыми, как бревна. Корзины лежат на печи, и когда она смотрит на них, то плачет.
– Конечно, – нетерпеливо возразила Мейта, – веселого в жизни мало. Но Дина – солнце…
– Солнце, – все так же монотонно повторила Фейга, – но нас и солнце не согреет. Когда посидишь в комнате, где мать лежит на одной кровати, а Ита, теперь опять забеременевшая от какого-то мальчика, на другой, и подумаешь, как они обе мучатся, то и о себе забудешь. Обе говорят, кричат от злости, ругаются, плачут… И голод сидит с ними, как живой.
Мейта уже молчала. И казалось, то были слова из книги зла, которые произносила девушка.
– Если бы не я, не Фрима, – продолжала Фейга, – они давно умерли бы с голоду. А ночью на улице уже прохода нет от девушек. И злишься на них, что отбивают хлеб.
– Это страшно, – бормотала Мейта с гримасой, как будто ее ударяли.
– Привыкнешь, Мейта, – с спокойным унынием отозвалась Фейга, и в этом был ужас. – Оно придет и к тебе, как самый верный друг. Оно отыщет дом, где ты живешь, твою квартиру, постучит тебе в окно, и ты выйдешь. Если зима не вытолкнет, весна заманит. И толкает, и тянет, Мейта…
Послышались шаги Нахмана, и Фейга стремглав выбежала из комнаты.
– Ну, вот я и свободен, – произнес он усталым голосом – Добрый вечер, Мейта! Что теперь делать?