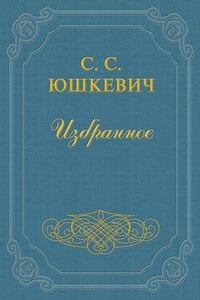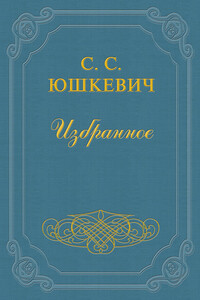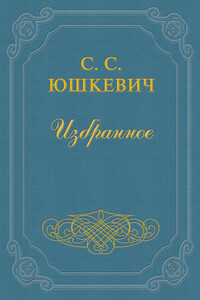– Вы слышите, Нахман, – говорил Даниэль, вытянувшись во весь рост. – Возражать не нужно. Я умоляю вас. Это высоко, как самая маленькая звезда, и это близко, как собственное сердце. Нужно закрыть уста и улыбнуться. Нужно улыбнуться и раскрыть объятия. Нужно раскрыть объятия и заплакать от радости. Вы чувствуете, Нахман? Если нет – положите голову под крыло. Вера придет…
Он говорил уже непонятным языком, но обнаженность его души вызывала сочувствие. Теперь он стоял, склонив голову набок, и нежно улыбался, прищурив глаза.
Наступила тишина, – ив тишине этой происходило высоко человеческое, важное… Работали души, переживая победную радость единения одного с миллионами, и так шло время.
– Ну вот, – вздохнув, произнес Лейзер, – мы и вернулись. Как тяжело каждый раз, когда просыпаешься и все находишь себя здесь!..
Он стал говорить меланхолическим голосом о том, как страдает здесь, на чужбине, и тяжело было слушать эти яркие слова о тоске.
Он не выносил воздуха чужбины, и ему казалось, что он дышит отравой, и болеет…
– Я и сам не знаю, что со мной, – рассказывал он, и все слушали, опустив головы. – Я тоскую. Я как будто давно ушел из дому и хочу туда. Я работаю и говорю себе: родина, – вот что меня держит.
Нахман встал. Словно укор чему-то решенному в его душе казались эти люди, и он не мог больше оставаться с ними.
– Я не чувствую, – произнес он громко. – Я не чувствую, – повторил он в отчаянии. – Я готов заплакать от ваших слов, но все же моя кровь смешалась с землей чужбины… Я хочу счастья, – но здесь.
– Вы не еврей! – резко оборвала его Дина.
– Вы не еврей! – с ненавистью повторил Лейзер.
– Уже поздно, – уныло произнес Нахман вместо ответа. – Вы идете, Мейта?
Он начал искать свою шляпу, а Даниэль, помогая ему, тихо говорил.
– Не огорчайтесь, Нахман. Вы или он, – это все равно. Вы – один сын, он – другой. Не огорчайтесь, прошу вас, – мне это больно.
– Ничего, Даниэль… Я ведь все-таки чувствую себя правым.
Мейта уже ждала его. Нахман простился с каждым отдельно, и оба вышли. Двор был темный, и оттого, что падал дождь и ноги увязали в грязи, Нахман и Мейта подвигались, держась за руки. На улице пахнуло ветром.
Впереди них шли люди, и, казалось, они понурились и от отчаяния не хотели чувствовать ни ветра, ни своей жизни, ни бесцельности того, что их окружало, что их поджидало. И дождь как будто безнадежно звенел над ними.
– Вы молчите? – тихо проговорил Нахман.
Они все не разнимали рук, словно боялись потерять что-то дорогое, важное, которое было так нужно теперь в темноте, в одиночестве…
– Мне трудно рассказать, Нахман, но там я чувствовала так, будто передо мною раскрылось небо!..
Она не хотела выдать всей своей мысли и нахмурилась.
– Я не знала, что я еврейка, – задумчиво выговорила она. – Еврейка, Нахман? Ведь это совсем другое. И нас мучат? Евреев мучат.
И точно лишь теперь поняв смысл этих слов, она с недоумением спросила:
– За что нас мучат, Нахман?
Оба шли, задумавшись над вопросом, и дождь безнадежно звенел им в ответ. Как со сна, они вспоминали рассказы об ужасах гонений, вставали легенды, никому не рассказанные, – годы бедствий, избиений, и, как первый лепет ребенка, у обоих зарождался один вопрос:
– Почему нас бьют, Нахман?
– Почему нас бьют, Мейта?
Они углубились в самое сердце окраины, и от огоньков в квартирках шла такая тоска, будто мертвецов освещали они. И все кругом, – и широкие, потонувшие в грязи улицы, и оголенные деревья, и убогие дома были полны такой тоски, что, казалось, и они, как живые, здесь молча молили, чтобы их убрали куда-нибудь, где лучше…
– Еврейка, – вспоминала Мейта, робко прижимаясь к Нахману. – Какая радость в этом слове! Мы евреи. Вы еврей, Нахман, еврей!..
Она как бы упивалась словом. Она произносила его громко, и понизив голос, и шепотом, и было так, как будто она влюблялась во что-то хорошее и любовалась им.
Ей стыдно было сознаться, но она замирала от счастья при мысли, что евреев мучат. Словно до сих пор от нее требовали жертвы, подвига, она не знала какого, а теперь ей сказали.
Евреев мучат… она будет еврейкой. Ее будут истязать, гнать, – она будет еврейкой.