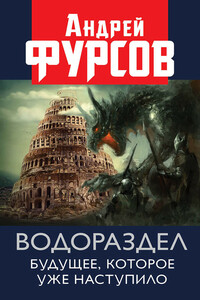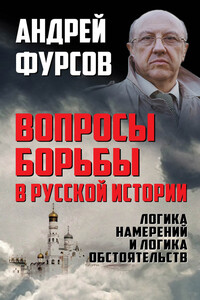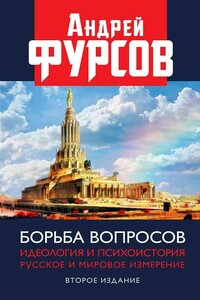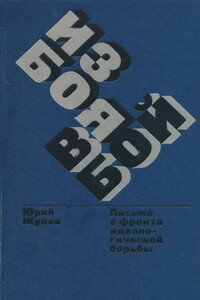Еще один «очарованный странник» - страница 53
Однако позиция Крылова объективно также таила в себе серьезнейшие противоречия и ущербности. Дело в том, что формирование группы наемных работников умственного труда, характерное для энтээровской эпохи, в советском обществе протекало в уродливо-незавершенной форме – оно не имело под собой прочной материальной базы. Кроме того, если коммунистический порядок определенным образом и отражал (с постоянным, выражаясь по зощенковски, убыванием этого отражения) как-то интересы трудящихся, то трудящихся доиндустриального и раннеиндустриального типа. Интересы же наемных работников умственного труда, объективно соответствовавших постиндустриальной фазе и в СССР возникавших преимущественно по логике общемировых закономерностей развития, противоречили интересам различных групп коммунистического общества. Среди этих групп были те, которые сохраняли свое привилегированное положение, и те, которые, подобно «советской интеллигенции», с 60-х годов начали утрачивать его, постепенно утрачивая статус, маргинализируясь и отвечая на эту утрату реакционной романтикой поисков «социализма с человеческим лицом» (шестидесятничество).
В такой ситуации объектом самоидентификации для людей типа Крылова оказывался сам режим, точнее его консервативные или даже архаичные аспекты и формы, именно то в нем, что было характерно для ранней – сталинской стадии – когда в русской истории народ и власть, как это ни парадоксально и ни страшно прозвучит, но это так, максимально сблизились: власть стала на какое-то время народной, а народ – властным, кратическим. Другое дело – что из этого вышло. Показательно и то, что именно на ранней стадии коммунистического порядка социальные гарантии положения представителей господствующих групп не были закреплены, и это создавало картину равенства перед произволом ( «Скажи “чайник”». – «Чайник». – «Твой отец начальник»), когда царил расстрельный эгалитаризм. Внешне получается, что реакционному романтизму элитариев противопоставлялся реакционный же романтизм доиндустриальных и раннеиндустриальных пролетариев. По сути же это было проявлением трагедии народного (точнее – властенародного) типа в такой ситуации, когда «народная» (точнее – властенародная) фаза коммунистической истории окончилась и опереться представителям этого типа было уже не на что. Впрочем, у старшего поколения этого типа людей всего лишь на 10-15 лет старше Крылова, такой естественной опорой и средством автолегитимации перед лицом новой реальности были – война и наша победа. Но это поколение, может и полупоколение – исключение, единственное поколение настоящих победителей в советской истории.
У младшего, «крыловского» поколения такой опоры не было, и не случайно у его наиболее думающих и творческих представителей так трагически сложилась судьба, многие рано ушли из жизни, исходно ощущая свою обреченность – социальную и личную.
Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет тот и правит,
Поехал, так держись!
Я повода оставил.
Смотрю другим вослед.
Сам ехал бы и правил,
Да мне дороги нет...
Так писал о себе Николай Рубцов, душевное, экзистенциальное родство с которым ощущал Крылов. Они действительно относились к одному – послевоенному – поколению одного и того же социально-исторического типа. Сюда же можно отнести отчасти Шукшина, отчасти Вампилова и много других лиц – известных и не очень. Это очень странный тип. Он не является стопроцентно ни советским, ни антисоветским, ни коммунистическим, ни антикоммунистическим. Он – несколько иной, в иной плоскости, а потому был обречен (в разных формах – от непонимания до смерти) логикой коммунистического режима, независимо от того, какой стороной – положительной или отрицательной – этот режим к нему поворачивался.