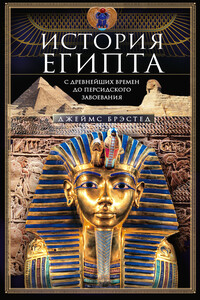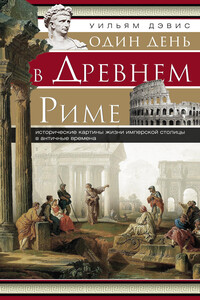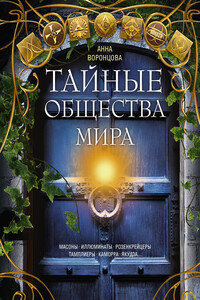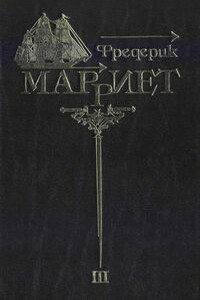К слову, эта поэма добавляет несколько штрихов к нашим познаниям об обряде жертвоприношения. Великие свершения богов предварялись определенной церемонией, запечатленной в повторяющихся строках: «Тогда сели боги / на троны могущества / и совещаться / стали священные». «На тронах могущества», или престолах правосудия (rökstóla[154]), боги обсуждали вопросы расположения на небесах звезд и светила, сотворения племени карликов; совещались, должны ли боги платить дань ванам: «Стерпят ли асы / обиду без выкупа / иль боги в отмщенье / выкуп возьмут». В этих стихах изображен предваряющий эпизод праздника блота: ритуальное «совещание», которое предшествовало церемонии; в нем отрабатывались жесты и словесные формулы, чтобы сама церемония прошла без сучка и задоринки, и избирали главного жреца, который должен был занять rok-престол и совершить обряд жертвоприношения. Те же места служили и для произнесения священных формали, ритуальной декламации преданий и мудрых изречений, зачитывания родословий и провозглашения законов установлений. Вся мудрость, принадлежавшая клану, необходимая для праведной жизни, вступала здесь в тесный контакт с обрядом. В «Вёлуспе» к сцене «рождения» карликов «из Бримира крови / и кости Блаина» был приложен список имен. Существуют и другие намеки на повторение мифологических знаний в качестве дополнения к драматическому представлению. Такие церемониальные чтения служили образцом для дидактических руководств по мифологии и космогонии, таких как «Речи Гримнира», «Речи Вафтруднира» и «Песнь о Фйольсвидре», или по ритуальной терминологии, такой как «Речи Альвиса». Эти поэмы созданы в форме диалога, во время церемонии один из жрецов задавал вопросы и демонстрировал мудрость лидера – hapta snytrir.
Если рассматривать «Песнь о Хюндле» в таком свете, то становится понятно, что эта поэма воспроизводит генеалогическое повествование норвежского клана, вероятно претерпевшее художественную обработку в соответствии с литературными традициям X в. Собрание поучительных и ритуальных изречений под названием «Речи Высокого» также дошло до нас в форме пьесы, предназначавшейся для обрядовой декламации, и часть этого собрания изречений, без сомнения, заимствована непосредственно из церемониальных текстов. Примечательно, что поэма заканчивается древней формулой, которой завершали чтение и «закрепляли» удачу обряда:
Вот речи Высокого
в доме Высокого,
нужные людям,
ненужные ётунам.
Благо сказавшему!
Благо узнавшим!
Кто вспомнит – воспользуйся!
Благо внимавшим!
Местоположение престолов не надо искать далеко, они находились у того места, где были сконцентрированы святая удача и благословение праздника: у подножия Древа рядом с источником, в пределах участка, отгороженного для жертвоприношения. На языке легенды это звучало так: «Гулльтопп и Леттфети – / те кони носят / асов на суд, / что вершится под сенью / ясеня Иггдрасиль».
Эта фраза из эддической песни «Речи Гримнира» несет в себе намек на ритуальную практику, когда боги занимали свои rrökstóla – священные престолы, где вершили суд. Другая картина церемониальной процессии к престолам правосудия представлена с помощью мифологии, в той же поэме: «Кермт и Эрмт /и Керлауг обе / Тор вброд переходит / в те дни, когда асы / вершат правосудье / у ясеня Иггдрасиль; / в ту пору священные / воды кипят, / пламенеет мост асов»[155].
Мы видим, приносившие жертву проходят мимо костра к своим престолам, расположенным позади кипящих котлов. Над ними простирается святая ветвь, символизирующая Мировое Древо.
Когда скальд Эйлив, автор «Хвалебной песни Тору», обратился в веру Христову, он отразил свое доверие к новому богу в таких кеннингах: «конунг Рима», «сидящий на юге у источника Урд». В переводе это означает, что Рим был городом rrökstóla, то есть священного престола Иисуса.
Боги клана и боги ритуала
С нашей точки зрения, боги делились на две группы: боги клана, священные покровители рода, нередко олицетворявшие его хамингью; и ритуальные боги, представлявшие определенную фазу в драме. Собственно говоря, само празднество блота, его участники, дом, в котором оно совершается, ритуальные предметы и орудия, а также слова и действия являются богом, но это божество персонифицируется, или получает воплощение, только на конкретном этапе обряда; подобные исключительно функциональные боги были и у римлян. Эти божества не обладали индивидуальным постоянством вне ритуальной драмы, за пределами сцены, на которой они действовали. Их существование было ограничено рамками обряда, и они никогда не имели ярко выраженного персонального характера.