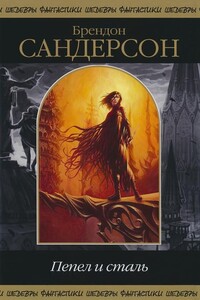— Сочельник.
— Сочельник, — эхом шепнула она.
— Плохой я человек.
— Успокойся.
Трудны крякнул, вылез из под одеяла, встал, потянулся; подошел к жене сзади, но не обнял ее. В комнате было теплее, чем представлялось; старая печка грела как следует; даже встав только что из постели, Трудны не чувствовал прохлады.
— Я тебе кое-что скажу, — он наклонился над ней, приблизил свои губы к самому ее уху, заслоненному черными, спутавшимися волосами; втягивая воздух, он втянул в себя и ее запах: от Виолы пахло сном. Чувство обоняния у Яна Германа было развито сильнее, чем у многих других людей, непропорционально сильно даже по отношению к другим собственным органам чувств; некоторые моменты, определенные впечатления помнил исключительно по их аромату, а ведь довольно сложно запомнить форму, цвет и фактуру запаха.
— Успокойся, — Виолетта слегка пошевелила головой, как бы желая отстраниться от мужа, но в конце концов отказалась от этого намерения, выбирая неподвижность и пассивность.
— Виолетта, еще немного и я сойду с ума.
Информация заключалась в тоне, каким эти слова были произнесены.
Она развернулась на месте и поглядела ему прямо в глаза, внезапно чуть ли не втиснувшись в его объятия, и в связи с этой нахальной близостью ей пришлось выбирать хоть какое-то выражение лица — Виола выбрала сердитую растерянность.
— Снова Словацкого начитался?
— Я должен тебя предупредить.
Жена знала его достаточно хорошо, чтобы не продолжать издевок перед лицом отсутствия какой-либо реакции на первые.
— Это перед чем же?
Ян Герман отвел взгляд.
— Я предчувствую... предчувствую какие-то перемены.
— И с каких же это пор ты у нас стал предчувствовать? Янек! — пихнула она мужа в грудь. — Говори, если что-то знаешь! — Она уже боялась, страх уже вибрировал в ее голосе. — Это во что же ты снова вляпался?
— Не знаю. Не знаю, что это такое. — Он схватил жену, потащил ее на кровать; та не дергалась больше обычного: лишь следила за его делано мертвенным лицом. — Бывают такие утренние часы, когда просыпаешься и достаточно лишь раз дохнуть, как уже наверняка знаешь, что вскоре будет гроза. — Чтобы не глядеть жене в глаза, Трудны следил за своей левой рукой, медленно перемещающейся по вздымающейся и опадающей груди Виолетты. — Сразу чувствуешь пробки в ушах, ожидание грома...
— Какой еще гром...
— Тихо, тихо.
— Как будет в Сочельник, так и целый год...
— Тихо.
— Ведь ты всегда у меня был сумасшедший.
А потом она уже ничего не сказала, потому что не любила слов; ее склонность к сверхъестественному проявлению эмоций иногда проявлялась кататоническим внешним спокойствием.
В плотской любви Трудны был на удивление мало эгоистичен: очень часто удовольствие, даже большее от собственного наслаждения, давало ему осознание удовлетворения, подаренного им женщине. А все потому, что он был тем, кем был — сам себе же объяснял это доминированием иного своего недостатка: желанием властвовать — ведь его власть над этой женщиной уступала разве что власти страха и страданий. Случались такие вечера, когда в зеркале он видел отражение лишь деспота, и никого более. И тогда в собственном взгляде он замечал эту жажду власти так же явно, как видишь боль и отчаяние.
?????
Увидав штандартенфюрера СС Петера фон Фаулниса, Ян Герман Трудны сразу же понял, что встретил в нем собственного духовного близнеца.
— Герр Трудны.
— Герр штандартенфюрер.
У них был отдельный столик в зеркальном зале "Ройяля"; фон Фаулнис ожидал Трудного за ним. Когда Трудны шел по залу, всего лишь на одну треть заполненному гостиничными постояльцами и гостями постояльцев, гладко выбритый, гладко причесанный, нахально выпрямленный и нахально мрачный, упакованный в свой наилучший, потому что самый новый темный костюм — он и вправду чувствовал на себе все их взгляды словно прикосновение влажных стариковских пальцев, ощупывающих его лицо, давящих ему на затылок. Но он шел за официантом, ни на чьи взгляды не отвечая. Понятное дело, что его принимали за немца; только он и так был немногочисленным исключением из обязательного для мужской части ресторанной клиентуры правила ношения мундира. Но Трудный мог это снести, у него имелась большая практика. Увидав его, штандартенфюрер поднялся. Они обменялись поклонами. Официант подвинул стул для Яна Германа. Присаживаясь, они еще поделились сухими четверть-улыбками над столом, застеленным снежно-белой скатертью.