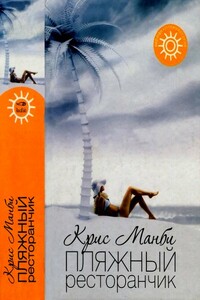— Джош!
— Мм?
— Мне кажется, меня сейчас вырвет, — говорит она, соскакивая с моих колен и нетвердыми шагами двигаясь к раковине.
Я решительно встаю, чтобы помочь ей, но пока я стою, дрожа и онемев, и тру ее по спине, запах из раковины достает и меня.
Вытерев свои лица, убрав грязь, выпив воды, мы смотрим друг на друга полуудивленно-полуиспуганно и внезапно протрезвев.
— Как ты думаешь, не хочет ли кто-то там наверху что-то нам сообщить? — спрашивает она.
— Думаю, что да, — говорю я со слабой улыбкой. — И должен сказать, что он поганый-поганый негодяй.
После того как Уортхог отхватил себе работу лучше, чем у кого-либо еще, он пригласил некоторых из своих ближайших соперников погостить у его родителей в Хертфордшире, как делал это каждое лето все три последних года. Мы играем в шары на гравийной дорожке, в теннис на шершавых кортах за огородом и в мини-гольф и крокет на покатой лужайке с видом на пастбища, усеянные дубами и простирающиеся до западных склонов Мальвернских холмов. Вечером мы напиваемся настоящим элем в «Зеленом Драконе»; еще пьянее становимся от аперитивов в гостиной, где такой громадный камин, что можно стоять в любом месте, поместив голову в дымоход, ритмично покачиваясь под приглушенные звуки Гэрри Джеймса и его биг-бенда, которыми нас мучает Уортхог-старший; и уже мертвецки напиться в столовой, на потолке которой роза Тюдоров, упомянутая в справочниках Певзнера, и где Уортхог лукаво посмеивается над стряпней своей матери, а Уортхог-старший непрерывно подливает нам кларет и портвейн и рассказывает нескончаемые истории своей воинской службы и розыгрышей и проделок в кутящем обществе Лондона в те времена, когда он гулял в Челси с легендарной «бандой Ролингс-стрит». Это называется «показать стиль».
На следующий день все повторяется снова, только с большей головной болью и меньшей энергией. Вечером мы собираемся на ступеньках у лужайки, курим турецкие сигареты, поглощая неизбежные «белые леди», изготавливаемые Уортхогом-старшим, и глядя на флотилию воздушных шаров, проплывающих над Британским лагерем в лучах заходящего солнца.
Уортхог ерзает задом рядом со мной на испещренной лишайником плите и подталкивает под ребра.
— Не падай духом, плебей, — говорит он. Никто, кроме него, не называет меня так, и я привожу эти слова, только чтобы быть абсолютно точным.
— С чего ты решил, что я упал духом?
— А разве это не так? — говорит он с теплотой и симпатией, которых я у него давно не отмечал. Конечно, я грущу. Мы все грустим. Это же последнее лето нашей юности.
— Да, немного.
— Не нужно было пытаться крокировать меня, — говорит он.
— Сукин ты сын, ты же знаешь, что это не имеет отношения к крокету.
— Что такое — этот Девере все еще шумит по поводу крокета? — весело рокочет Уортхог-старший, направляясь к нам с кувшином, наполненным до краев вином.
— Это ваш сыночек никак не может наговориться о крокете. Ему что, редко случалось выигрывать?
Уортхог-старший смеется, наполняя наши стаканы. Поддразнивание — еще один признак «показа стиля».
— Должен вам сообщить, что я ни разу не проигрывал здесь в крокет с лета восемьдесят третьего года, — заявляет Уортхог.
— О да, и понятно почему, — говорит Дункан.
— Иди к черту, змей, — говорит Уортхог.
— Да, — говорю я, — потому что в тот момент, когда у кого-либо появляются шансы на успех, ты начинаешь мешать ему своими смехотворными «местными правилами» типа — что там было сегодня? — нельзя крокировать шар хозяина, если красный шар не лежит перпендикулярно к третьей ромашке справа от…
— Папа, защити меня.
— А также, — подкалывает Дункан, — игрокам запрещается колотить хозяина, если в названии месяца нет трех «R», исключая високосные, олимпийские и другие года, которые хозяин по своему разумению…
— Папа!
Но теперь уже собрались все. Уортхог-старший. Миссис Уортхог. Анна. Сюзанна. Маркус. Джонни. Дункан. Жаль, нет камеры, чтобы заснять это. Получилось бы, как те выцветшие черно-белые снимки 30-х годов, на которых изображены юные дарования с теннисными ракетками, проборами посередине и дурацкими выражениями лиц, развлекающиеся в роскошных поместьях. Смотришь на эту золотую молодежь, которая выглядит гораздо старше своего возраста, как все люди в то время, и размышляешь о том, кто из них кого соблазнил (или тогда было слишком строго с сексом?), многие ли пережили войну и догадывался ли кто-нибудь из них о том, что будет дальше — лишения, разрушения и смерти, а потом конец их общественного строя. Сомневаюсь. О таких вещах ведь не думаешь заранее. Кажется, что все будет длиться вечно: те, рядом с кем ты живешь, всегда будут твоими друзьями, вы вместе будете становиться старше, но никогда не состаритесь, у вас по-прежнему будут одинаковые интересы, вы останетесь теми же людьми, у вас будет одинаковый уровень доходов, вы будете жениться друг на друге и рожать детей, которые будут учиться в тех же самых школах и тех же самых колледжах в стране, которая выглядит все так же, где ценности неизменны, а время застыло в тот идеальный день того идеального английского лета, потому что жизнь будет идти так всегда, потому что ты молод и красив, и разве может быть иначе?