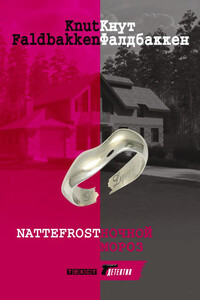Мы стояли на зеленом пригорке и тяжело дышали после подъема. Он начал расстегивать рубашку, а дрозд с верхушки сосны равнодушно комментировал виденное. Я стоял, как столб, застыл в смущении. Запруда раскинулась перед нами большим зеркалом, будто бездонная. Здесь, конечно, очень глубоко. И течение… До строительства плотины была здесь, говорят, трясина, много людей и животных исчезло в ней. И еще многое рассказывали… Соблазнительная вода лежала угрожающе тихо.
— Ты, Петер, будь осторожней, когда ныряешь, понимаешь?
Он снял рубашку и положил на траву.
— Молодежь не думает о таком…
Он ответил как бы сам себе, сел и начал развязывать шнурки.
— Молодежь нынче не то, что мы. Свободна, не знает, что такое помехи, запреты…
И он посмотрел на меня, увидел, что я все еще стоял как зачарованный, не смея начать раздеваться, увидел, но не обратил внимания, потому что привлекало его нечто другое: он всматривался в ту сторону, где река расширялась и образовывала начало запруды, где в нескольких метрах отсюда, на другом берегу, виднелась маленькая зеленая полянка, окруженная деревьями и кустарниками, место, где загорала Катрине… Смотрел он действительно туда?
— Да, молодежь, — повторил он и с наслаждением вытянул на траве ноги, мускулистые мужские ноги. Запах пота. — У нас хорошая-хорошая молодежь. Создаем трудности там, где не надо мы, взрослые. У молодых надо учиться жить открыто, учиться честности и искренности…
Он снял ремень, начал расстегивать брюки. Я понял, что пока он стоял и раздевался, он как бы разговаривал с Катрине. Я дрожал от возмущения и гнева. Хотелось кричать, хотелось протестовать.
— Да, тебе Петер повезло, у тебя все еще впереди. Не упускай молодые годы. Когда станешь старым, будет поздно…
Он поднялся, брюки упали на землю. Рубец сиял белизной, как стальная бритва, выпирая из голени позади плотной икры. Рубец, которым он привлек Катрине. Рубец, на который я сам обратил ее внимание. Потом он снял трусы. Тело его тоже казалось на солнце белым-пребелым. Я старался не смотреть на него, сосредоточил внимание на пуговицах рубашки, слышал, как он прокричал:
— Ты скоро?
— Да. Секунду…
Я расстегнул для вида несколько пуговиц. Медленно стащил через голову рубашку. Солнце неумолимо жгло мои узкие плечи. Лицо покраснело, из носа потекло. Я сел на землю, чтобы снять кроссовки и тем самым оттянуть время.
— Вода не холодная!
Я осмелился снова взглянуть в его сторону. Он стоял по колено в воде. Здесь было отвесно глубоко. Он махал мне и что-то кричал. На белой груди четко вырисовывался волосатый треугольник, живот был белый и плечи белые, под мышками по-смешному коричневые пятна. Но то, на что я особенно обратил внимание, был его член, висевший между сильными, покрытыми волосами бедрами, темный, тяжелый, почти угрожающий: Что должен пережить человек, чтобы его половой член выглядел так победоносно? Умру лучше, чем покажу ему свой бледный стебелек, выставлю на обозрение свою пылкую мечтательность в противовес такому жизненному опыту. Его тело было по-молодому сильным и как бы порченым. И маленькие девичьи груди Катрине имели темные кружки от кормления. Они подходят. Хорошо подходят. Разве устоишь против такого союза?
— Ого-го!
Он бросился в воду, плескался руками, болтал ногами, вокруг него — пена.
— Ого-го! Хей! — Пронзительный крик. — Ну иди же! Здесь так хорошо!
Но я остался сидеть на траве прикованный, как девчонка в период менструации, и смотрел на него, на эту физическую необузданность, на эту молодость во взрослом мужском теле. Теперь он плыл большими размашистыми движениями рук:
— Посмотри!
Он нырнул, скрылся под водой, опять вынырнул, смеялся и фырчал, сплевывал и сморкался. Снова нырнул. Последнее, что я видел — это белый волосатый зад и пятки, исчезнувшие в темной воде. Он долго не появлялся на поверхности. Я не считал секунды, но показалось, будто он был намного дольше, чем может выдержать обычный человек под водой. Но вот он появился, отплевываясь и харкая, помахал мне рукой, прокричал что-то. Я спрыгнул вниз к берегу. Он поплыл мне навстречу, тяжело дыша и откашливаясь: