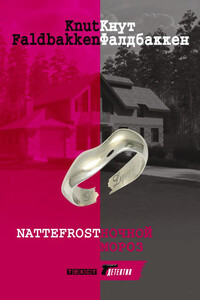В пятом висела маленькая птичка. Малиновка, мертвая. Она попала в силок одним крылом и висела так странно с вывороченной головой книзу и раскрытым клювом, маленькие коготочки изогнулись, пытаясь ухватиться за ветки. На крыле, попавшем в петлю, прозрачные перья раскинулись красивый веером, но другое крыло висело по-сиротски безжизненно, острием указывая на землю. Длинные светлые соломинки торчали сверху, словно хотели прикрыть мертвое тело.
Я осторожно освободил птичку, не выбросил, стоял и держал в руке. Тельце холодное и невесомое.
Обескураженный отправился я домой. Всю дорогу нес птицу, осторожно прижав к себе, точно знак своего раскаяния. В избушке я положил ее на газету и рассматривал. Она была красивой, само совершенство, и красное оперение на грудке слегка шевелилось от моего дыхания. Клюв, коготочки — результат искусной филигранной работы. Оперение на сломанном крыле легло вялым полукружочком. Я так долго смотрел на птицу, что она стала как бы частью меня, стала моей собственностью, драгоценным моим кладом. Его нужно спрятать и доставать, когда возникнет потребность видеть прекрасное. Остался доволен принятым решением.
Но мухи не хотели упустить свое. Как я не пытался их отогнать, они слетались к птице, ползали по ней. Нужно спрятать. Я завернул птичку в газету, встал на колени и задвинул далеко под кровать. Надежно. Похороню позже, когда найду подходящее место.
Подойдя вечером к дому, я услышал невообразимый шум. Оказалось, что коровы сломали изгородь и разбежались и теперь паслись на пашне. Дядя Кристен бросился за ними вдогонку, и я поспешил на помощь.
Но когда я подошел, он уже согнал почти всех, лишь две или три упрямились, прыгали, строптиво задрав кверху хвосты. Дядя бегал, тяжело подпрыгивая по твердым налитым колосьям, громко кричал и бил плеткой. Животные неслись галопом, а дядя Кристен, тяжело дыша, за ними вдогонку, не позволяя им отклониться в сторону… мало элегантного было в этом беге: я наблюдал с большим удивлением, не помогал, так как знал, что дядя Кристен все равно справится.
И он справился. Он хорошо знал их коварные нравы, гнал их к дому, посвистывая, крича и размахивая плетью. Он был в ярости. Я никогда не видел его таким, он никогда не бил животных. И наблюдать за тем, что происходило, не доставляло особой радости. Я слышал, как он кричал им вслед проклятия, и плеть так извивалась, что воздух наполнялся пением. Но он согнал животных к воротам. Погнал дальше в коровник. Последняя корова получила сильный удар в живот: «Проклятая скотина!»
Я поспешил домой, не хотел возвращаться вместе с ним, когда у него такое настроение. Не понимал что с ним. Неприятно, разумеется, если скотина топчет посевы, но… Он никогда так себя не вел, никогда.
Я подошел к дому с сильно бьющимся сердцем, перепрыгнул через забор и сразу попал в кухню тети Линны. Пахло сладким. Она варила варенье. Стеклянные банки с вареньем стояли рядком на кухонной стойке. Оса кружила под потолком, потом переползла на окно.
— Он загнал их!
Она сидела за накрытым к ужину столом. Стояли тарелки и стаканы, лежали бутерброды. Она не ответила и не пошевельнулась, когда я вошел. Сидела на своем обычном месте, но будто никого не ждала, голова тяжело покоилась на одной руке, глаза были закрыты. Одинокая слеза упала на стол. Я увидел письмо там, где сидел дядя Кристен. Почтальон, вероятно, пришел сегодня поздно. Адрес на конверте был написан синими чернилами. И на кухонной стойке, ближе к дверям, стояло небольшое ведро с молоком, поблескивая по краям, будто в нетерпении ожидая дальнейшей транспортировки.
14.
Все последующие теплые дни мы возили сено. Он поднимал сено с тяжелых подставок, где оно лежало и сушилось, и бросал в телегу, а я утрамбовывал. Было невыносимо жарко, мы обливались потом, но он не знал усталости. Теперь я уже не сидел верхом на возу, как в прежние годы, когда был поменьше. Я брел позади телеги, чувствовал, как ноги набухают в мокрых от пота кроссовках, мечтал о тени и стакане холодной воды. Но он не хотел отдыхать, он не нуждался в отдыхе: бросал и бросал сено уверенными и привыкшими к работе руками, потом ехал и вываливал огромные снопы высушенного сена на пол в амбаре. У меня кружилась голова от этой тяжелой работы. Но мне нравилось наблюдать за ним, за его честным трудом, и я почти забыл о своих подозрениях. Такой мужчина, как дядя Кристен, без устали трудившийся день за днем как бы не мог ухаживать за молодой женщиной, одиноко живущей в доме поблизости. Не укладывалось в голове. Дядя Кристен снова стал для меня старым добрым дядей Кристеном, когда он неутомимо взмахивал вилами и бросал мне на воз сено.