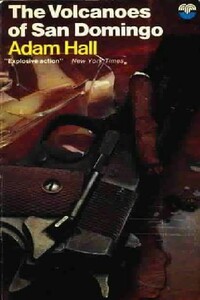— Афанасий Никитович, сейчас живот болит?
— Ни-ни, — испугался он, точно ждал от меня каких-то процедур по проверке его недомогания.
— Посидите в коридоре, и пусть войдет напарник.
Я подумал: ночь, следователь допрашивает, оперативники бегают, ребенок в больнице… А ведь где-то есть мать. Спится ли ей в эту ночь с черными дождями и тренькающими стеклами? И видит ли она сны, голубые, как капуста на том поле?
Неудобно признаваться, но материнская любовь меня трогает мало. По двум причинам.
Несколько лет я занимался расследованием преступлений несовершеннолетних. И убедился, что зависимость отцов и детей наипрямейшая: какие родители, такие и дети; какие дети, такие у них и родители. Насмотрелся. Никогда не забуду старушку, бросившуюся на Леденцова и лупцевавшего его сухими голенькими кулачками, — не давала сына-убийцу, которого в день убийства и напоила самогоном. Насмотрелся.
И по другой причине не восхищает материнская любовь — от инстинкта она, а не от разума. Заложена природой, как, скажем, сохранение жизни или размножение. Как и у животных. Есть такая муха, яйца которой могут дать потомство только во внутренностях другого животного. Так эта муха-мамаша находит лягушку и снует перед ней до тех пор, пока земноводное ее не проглотит — добровольно погибает ради своих детей.
Вот я и думал… Не хватило у этой матери ума ребенка пристроить, но почему же инстинкт не сработал? Разумеется, я допускал, что ребенка могли украсть и бросить в поле. Но тогда бы мать оборвала телефоны в милиции…
Напарнику, Петру Ивановичу Зуеву, оказалось двадцать шесть лет. В сыновья годился Чепиноге, но молодость его скрадывалась неказистостью: небольшого роста, потертая куртка неопределенного цвета, шершавые плохо выбритые щеки, кепчонка, разбитость во всей фигуре… И никакого запаха одеколона.
— Рассказывайте, — устало предложил я.
— Как свернули с бетонки на темную землю, на эту капусту, так я и загадал: если проедем с километр и не тряхнет, то ЧП не будет, а если тряхнет…
— Подожди-ка, — перешел я на ты, что позволял мой возраст да и как-то сближающая ночь. — Почему загадал?
— Привычка у меня такая. Иду по улице и думаю: если женщина добежит до автобуса, то пойду в кино, а если не успеет, то пойду к знакомой.
— Кстати, как ты их называешь?
— Кого?
— Знакомых женщин.
— У какой какое имя.
— Всех, вообще, собирательно…
— Девушки, дамочки, герлы… Шутя — телка.
— Ну а Валюха, Нинуха?..
— Такой манеры нет.
Видимо, такая манера была только у Чепиноги. Но Зуев о ней не упомянул.
— А почему ждал ЧП?
— Объезд, земля жирная, дождь… Буксануть ничего не стоит.
— Кто сидел за рулем?
Мне показалось, что он надумал уйти, — так резко отвернулся к двери. Посидев в этом положении добрую минуту, водитель поворачивался ко мне сложно, точно был свинчен из отдельных частей: сперва повернул плечи, потом голову, а уж последним вернулся его потускневший взгляд.
— Кто же сидел за рулем?
— Не помню.
И он не помнит? Усталость с меня скатилась, как с того гуся вода; я понял, что тихому ночному следствию пришел конец.
— Не помнишь, что с тобой было три часа назад? — жестко спросил я.
— Может, у меня была баранка, а может, у дяди Афанасия.
— Дядя Афанасий не мог сидеть за рулем.
— Почему? — нахмурился Зуев.
— Разве у него ничего не болело?
— Зуб ныл, так это еще в Лесоповальном.
На честном лице, как на хорошем телеэкране, все видно: про руль соврал, про зуб сказал правду.
— Кто первый увидел ребенка?
— Сейчас не помню.
— Что ты предложил сделать с ребенком?
— Как что? — опешил он искренне. — Милицию вызвать.
— А не Танюхе отдать?
— Какой Танюхе? — делано удивился Зуев.
Я ничего не понимал. Искренность при словах о милиции и неправда при упоминании о злополучной Танюхе. Водители бесспорно давали ложные показания, ибо путались в простых вопросах, как в сложнейших формулах. Удивляло меня и то обстоятельство, что они не сговорились. Время у них было.
— Зуев, почему вы говорите неправду? — вернулся я к «вы», потому что ложные показания указуют на преступление, а с преступниками лучше без панибратства.
— Все как есть, — буркнул он в пол.