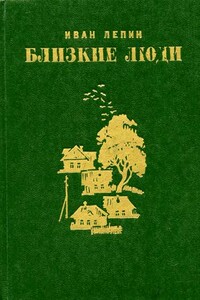Ах, как он споткнулся, ошибся, оплошал, дал маху — какие там еще синонимы есть? Впрочем, чего тут отыскивать словечки покруглее, побезобиднее? Скажи уж честно себе, Федор: мерзко и гадко поступил. Растоптал Натальину любовь. А жена до сих пор тебя любит нежной, стеснительной любовью.
Но все это в прошлом. Да, он согрешил в воскресенье девятого декабря. Но подобное не повторится. В этом он клянется совести — высшему судье.
Федор явственно теперь ощущал, как легчает на душе, как выравнивается дыхание, яснеют мысли. Надо полагать, мир и благополучие не покинут его семью. Тем более что поступок свой он осознал и наказал себя за него вчерашним и сегодняшним терзанием.
Конечно, понимал он, для пущей уверенности в дальнейшем благополучии семьи надо очистить свою душу и перед Натальей, во всем признаться ей. Она разумная, все поймет и все простит.
Только когда это сделать? Сейчас? Сегодня? Или повременить малость, не торопиться, дать отстояться чувствам и мыслям? Дело в том, что тут есть одна закавыка. «А ну-ка, — рассуждал Шуклин, — поставь себя на ее место! Вот она винится передо мной, стоя на коленях, умоляет меня отныне, и присно, и во веки веков верить ей, простить пусть даже нечаянную измену. И, допустим, я, переборов себя, все-таки не разуверюсь в чувствах любимого человека и скажу ей: „Ладно, прощаю, но чтоб в первый и последний раз…“ И жизнь снова пойдет своим чередом. Своим, но не прежним. Не прежним! Вот она, закавыка!.. Ведь я понимаю, что любая трещина — на металле, дереве, фарфоре, в душе ли, — как ты ее ни заделывай, со временем напомнит о себе, в самый неожиданный момент шов может лопнуть».
Что же тогда делать? Может, действительно, до поры до времени об этой трещине помалкивать? Пусть она и не такая уж узенькая, но если ее аккуратно заделать особым составом добрых чувств к жене (в первую очередь к жене!), если постараться больше проявлять о ней заботы, если ни на минуту без надобности не задерживаться после шести в редакции, если к Новому году подарить Наталье серьги или кольцо… Если все это и еще многое другое станет делать Федор, то трещину не то что не увидишь невооруженным глазом, но и в самый сильный микроскоп. А со временем, глядишь, и вообще зарастет-забудется.
А посему — стоит ли каяться перед Натальей? Что он, Федор Шуклин, не хозяин своему слову? Как бы не так! В себе-то он уверен на все сто!
И значит, надо придумать запасный вариант вчерашнего похождения.
Федор тихонько отстранил Натальину руку, чмокнул жену в щеку и начал медленно вылезать из-под одеяла.
— Ты куда? — открыла Наталья удивленные глаза. Даже в утренней темноте Федор заметил блеск этих глаз. Что-что, а глаза у его жены нерядовые: большие, черные, в них отражались малейшая искорка или лучик.
Федор по привычке поискал тапочки возле кровати, их на месте не оказалось. «Ах, это ж я вчера босиком, видать, топал…»
— Уже утро! — бодро сказал он.
И тут зазвонил будильник.
— Во, что я говорил?
Перед тем как идти умываться, Федор зашел в кухню и поставил на газовую плиту чайник.
В ванной он громко фыркал и плескался холодной водой.
Включил в общей комнате свет.
— Петушок пропел давно! — больше для Эли, спавшей в детской комнате, чем для Натальи, нарочито громко прокричал Федор.
Вышла из спальни Наталья, на ходу застегивая длинный, по щиколотки, халат.
— Это где тут петушок? — щурясь от света, игриво спросила она.
Федор юркнул в кухню. «Кажется, все в порядке», — сделал он вывод. Игриво же продекламировал:
— Что угодно приказать — кофе или чаю?
— Кофе, — раздалось из детской.
Наталья с Элей по утрам любили кофе с булкой и маслом. Федор предпочитал тарелку горячего супа.
Нынче Федор решил сам угощать жену и дочь. Он аккуратно разрезал на тонкие ломтики мягкий батон. Застывшее в холодильнике масло никак не прилипало к этим ломтикам, и он с досады покусывал губы.
Вошла умытая и причесанная Наталья, удивилась:
— Сегодня вроде и не Восьмое марта. Что это, Федь, с тобой? А-а-а, — двусмысленно засмеялась она, — все понятно. Ну-ну… Помогай…
И вышла. Ей на работу к половине девятого. Эле в школу тоже к этому времени. Но Элина школа — рядом, а Натальина аптека — минут двадцать на троллейбусе. Да до троллейбуса два квартала. Ей надо торопиться.