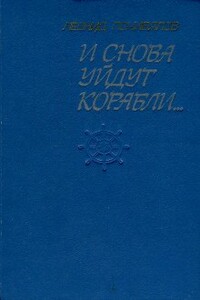Лепетухин сделал нерешительный шаг, и Гулыга почти силой протолкнул его за дверь. Подмигнул Смолину:
— Ржавчину с дурака соскабливаю. Хоть и дрянной, а свой. За борт не выкинешь.
— А как сейчас за бортом-то? Шторма не будет? — спросил Смолин. — Как, по-вашему, погода?
Физиономия боцмана расплылась в нежной улыбке, словно речь шла о женщине.
— Погодка, как говорится, шепчет…
Какой это крохотный мир — судно! И если ты неприкаян, трудно тебе найти приют для души. Все привычно, все знакомо, куда ни сунешься, все ограничено стальным бортом, очертившим твое крошечное жизненное пространство с одними и теми же предметами, звуками, запахами, с одними и теми же лицами, которые вскоре тебе начинают приедаться, а потом и вовсе надоедать. Не надоедает только море да небо над ним. И хотя Ясневич отрицает химеры, осмеивает придуманные нами тайны, на самом-то деле самые главные тайны нашего бытия еще там, за горизонтом.
Судно на ходу полно звуков, а в ночное время тем более. За одной дверью длинными дробными очередями стучит пишущая машинка, технический секретарь экспедиции Аня Кокова, нервная, с постоянно торчащей изо рта сигаретой девица, едва справляется с работой, ни на лекции, ни в кино ходить ей некогда — длинно пишут ученые свои отчеты. А какие могут быть сейчас отчеты? Ведь ученые еще ничего серьезного не успели сделать.
Стук другой пишущей машинки, только неторопливый, неуверенный, с раздумчивыми паузами, слышится из-за двери Солюса. Выстукивает академик свою книгу для молодежи. Вот он уж наверняка верит в тайны, и Атлантида для него не вздор.
Смолин поднялся по трапу пролетом выше. Уже издали заметил, что дверь геофизической лаборатории приоткрыта. Осторожно заглянул в проем и в уютном свете настольной лампы увидел склоненную над столом голову Чайкина с плоским стриженым затылком. Думает Чайкин! Молодец! Черт возьми, никогда не надо торопиться выносить приговоры ни людям, ни явлениям, ни древним легендам.
В коридоре ему встретилась Доброхотова. Опираясь рукой о поручень, она медленно шла к главному внутреннему трапу.
Поравнявшись, с трудом перевела дыхание, и Смолин подумал, что у нее не очень здоровое сердце, раз даже недолгий путь по коридору вызывает одышку.
— А я вам только что звонила в каюту. Завтра часиков в восемь вечера вы не заняты?
Смолин растерялся. Он занят почти всегда, но почему Доброхотову это интересует?
— Видите ли… Я бы хотела вас и Ореста Викентьевича завтра пригласить… в гости.
— В гости?! — изумился Смолин.
— Просто так, посидеть… — Голос ее звучал просительно. — Я уже Оресту Викентьевичу звонила, он согласен. А вы?
— А нельзя ли в другой раз? — затосковал Смолин. — Знаете ли… дела…
Лицо ее померкло.
— Хорошо! — произнесла упавшим голосом. — Раз дела… Тогда в другой раз…
— Вот, вот, — обрадовался он. — В другой раз обязательно.
Только ему недоставало потратить вечер на Доброхотову!
Отправляясь на ужин, Смолин увидел возле кают-компании Ясневича и Шевчика. Лекция давно окончилась, но Ясневич все еще продолжал нести людям свет знаний. Слушая его, Шевчик озадаченно пощипывал подбородок:
— Нет, Игорь Романович, не могу понять! Честное слово, не могу. В заливе был чудовищный ветер. Да и сейчас в океане волны вон какие. А нас почти не качает. Куда же ветер девался? Куда?
Ясневич загадочно улыбался, как учитель, подкинувший школьникам каверзный вопрос.
— Куда? А вы сами подумайте, куда? Ну!
— Нет. Не могу! Соображения не хватает, — чистосердечно признался кинооператор. И за чистосердечие получил поощрительный кивок головой.
— А все потому, дорогой мой, что у вас гуманитарное образование. Все потому! Ветер-то куда дует нам? В корму! И что получается? Сложение. Скорость судна совпадает со скоростью ветра. Вот и не качает… — Ясневич торжествующе засмеялся.
Оказывается, Ясневич все-таки кое-что знает.
— Константин Юрьевич!
Он обернулся. Перед ним стояла Женя Гаврилко. Вот еще одно несуразное явление в его корабельной жизни. Похлопала длинными ресницами, словно набиралась храбрости, пробормотала:
— Я вот хотела вас спросить…
— Спрашивай!
— Скажите, пожалуйста, зачем он вот так про тайны… Нет — и все!