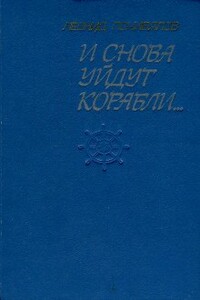— Ага!
— Вез нее нельзя никак. Она, так сказать, представитель национальной республики. В газете должна присутствовать непременно. Значит, придется разбудить!
Снова перетасовал рисунки, задержал в руке портрет буфетчицы Клавы Канюки.
— Очень похоже! — похвалил. — А копию можно сделать?
— Сделаю, если нужно.
Тон первого помощника снова стал официальным:
— Нужно! Вдруг понадобится Клавдию Канюку поместить на Доску почета. Она у нас передовая.
— Если хотите, я могу и Доброхотову. Она ветеран.
— Доброхотову? — Мосин запнулся, кашлянул. — Сделайте, конечно. — Подвигал губами, почесал за ухом: — А нельзя ли Канюки не один, а два экземплярчика? Лично для нее. Женщине приятно будет иметь такое. Надо людей, так сказать, стимулировать.
— Конечно, сделаю, раз надо.
Первый помощник светло, совсем по-детски улыбнулся:
— Ну, спасибо! И размером покрупнее, чтоб в рамку!
Когда он ушел, Смолин рассмеялся:
— А вы говорите — спаркер! Здесь, дорогой мой, куда более возвышенные материи.
До трех часов ночи разбирал Смолин чертежи, схемы и цифровые выкладки Чайкина. Взял в руки папку со скепсисом, даже с раздражением — тратить на прожектерство такое дорогое для него время! Но уже по первым страницам понял: содержимое папки, по крайней мере, заслуживает внимания. Одолел новые страницы, и стало ясно: задуманное Чайкиным любопытно. Есть серьезные просчеты, даже научное легкомыслие, результат недостатка знаний и опыта. Но бесспорно одно: в работе таится необычное. Нет, окончательные выводы делать сейчас рано. Надо б посидеть не три часа ночью, а со свежей головой не один денек, кое-что свое предложить, чтобы попробовать в решающих направлениях вывести идею Чайкина из бесспорно тупиковых ситуаций, из которых он сам на данном этапе без помощи более опытного и более знающего не выйдет. Смолин любил в науке неожиданное, спорное, способное увлечь, вызывающее на борьбу и преодоление сопротивления. Идея Чайкина принадлежала именно к такому, что способно лишить душевного равновесия. А в самом деле: почему бы нет?
Словом, утром Смолин проснулся в настроении скорее всего хорошем. Но вскоре оно было испорчено.
Обычно по утрам сразу же после семичасовой побудки по судовой радиотрансляции пускали московскую программу с последними известиями. Политической текучкой Смолин не интересовался. Он тут же выключил репродуктор, но голос диктора, какой-то необычно напряженный, доносился из-за тонкой стенки соседней каюты и настораживал. Смолин прислушался. Передавали заявление Советского правительства в ответ на речь президента США, которую тот произнес несколько дней назад. Судя по нашему ответу, президентская речь была откровенно воинственной и прямолинейной: никакого диалога с русскими, укрощать их лишь силой, вплоть до начала предупредительной локальной ядерной войны, только с позиции силы можно заставить русских изменить их внешнюю и даже внутреннюю политику. Со своей стороны, Москва в столь же решительных тонах давала американскому президенту отпор. Из советского заявления было ясно, что мы тоже готовы прибегнуть к крайним средствам в ответ на любое опасное действие противной стороны. Американскую сторону называли «противной», словно уже пошел в ход лексикон военного времени. Было очевидно: дело серьезное.
К завтраку обычно приходят в разное время, кто как проснется. А сейчас кают-компания оказалась в полном комплекте. И за капитанским столом все в сборе. На завтрак подали яйца, по меню всмятку, но, как обычно, крутые до каменной твердости. Сидели молча, и треск разбиваемой яичной скорлупы напоминал о насильственном нарушении целого и естественного.
— Слышали? — первая нарушила молчание Доброхотова.
Ей не ответили.
— В скольких рейсах участвую, а еще ни разу судовое радио не приносило нам ничего подобного! — продолжала она.
— Лично для меня все это не столь уж неожиданно. Я даже подобное предполагал… — заметил лучше всех осведомленный в политике Ясневич.
— Никогда не хочется думать о худшем, — вздохнул Золотцев.
— А надо! — веско обронил капитан, глядя в чашку с чаем. Яиц он не ел. — Мы, моряки, всегда обязаны быть готовы к худшему.