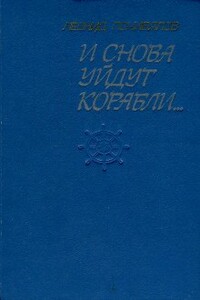— Я же медик по образованию, сам знаешь. — Коротко улыбнулась. — Когда-то приглядывала и за тобой.
— А что же судовой врач?
— Мамина недомогает. Я ее только что отправила в каюту. Не переносит качку.
— Судовой врач и не переносит качку?! Ничего себе!
Ирина кольнула Смолина осуждающим взглядом:
— Ну и что тут особенного? Сам Нельсон плохо переносил качку, а Дарвин, совершивший кругосветку, тяжко страдал морской болезнью.
— Да, но, как тебе известно, от этих слабостей двух великих людей не страдало дело.
Ирина, опершись спиной о стену, задумчиво посмотрела в сторону:
— Не знаю… — сказала чуть слышно. — Жалко ее. Одинокая баба, муж бросил, растит сына-лоботряса. Вечные нехватки. Предложили в рейс — не отказалась. Все-таки валюта. Кое-что подкупит для парня. И тоска, говорит, заела…
Смолин взорвался:
— Сын-лоботряс! Маму тоска заела! И она берет на себя ответственность за жизнь и здоровье ста тридцати человек на борту судна дальнего плавания! А если операцию придется делать? Аппендикс вырезать во время качки?
Ирина покосилась на него, сказала спокойно и грустно:
— Ты всегда был максималистом, Костя. Или — или. Нюансов для тебя не существовало…
— Плохо девчонке? — спросил он уже вполне миролюбиво.
— К счастью, ничего критического. Легкое сотрясение мозга, несколько синяков, да шишка на затылке — об стену головой бил. Мерзавец! Теперь более опасен нервный шок от испуга. Да еще подружки добавили: приходили навещать и сообщили, что моториста хотят отправить обратно и отдать под суд. Получит срок, раз сотрясение. А у него жена и ребенок. И этой дурочке стало жалко его.
«Да, — подумал Смолин, — бабья жалость мне хорошо знакома». Она-то и сыграла роковую роль в их жизни. Жалость к покинутому, неприспособленному мужу, который — это хорошо понимал Смолин, но не понимала Ирина — ловко воспользовался слабостью жены и сумел внушить ей, что без нее пропадет. Ирина вернулась к нему, но ведь одна жалость не может питать настоящее чувство, Смолин был в этом убежден. Так во имя чего принесла она эту жертву?..
— Послушай, Костя! — Ирина придвинулась к нему, и он кожей лица почувствовал ее теплое влажное дыхание. — Скверную вещь нам преподнесло сегодня радио. Слышал? Кажется, вот-вот начнется война. Сидела рядом с этой Женей, смотрела на нее, жалкую, испуганную, и об Оле думала. Только-только начинает жить, еще ничегошеньки не повидала… И вдруг как наваждение, как проклятие — война! Неужели она действительно может быть? А? Почему? Кому это нужно? Скажи!
От близости Ирины, от запаха ее волос у него вдруг перехватило дыхание. Захотелось прижать ее к груди, успокоить, приласкать. Но он, придав лицу значительное выражение, голосу убежденность, возразил:
— Не очень-то верю в реальность опасности. До конфликта дело не дойдет. Американцы, конечно, ведут себя нагло. Но думаю, у них хватит в конечном счете здравого смысла.
— Вот и Орест Викентьевич сегодня то же говорил — не может человечество дойти до полного безрассудства…
Ирина вдруг спохватилась:
— Надо пойти взглянуть на девочку. Может, все-таки заснула. Ей сейчас нужен покой.
В этот момент в конце коридора обозначилась живописная фигура в тельняшке и по-пиратски надвинутом на лоб красном платке. Это был подшкипер Диамиди, по прозвищу Елкин Гриб, личность на судне примечательная. Подшкипер слыл матерщинником высокого морского класса, за что ему не раз попадало от начальства. Всем было известно, что любимая присказка подшкипера «елкин гриб» — всего лишь вынужденная замена куда более крепких выражений, которые частенько клокотали под его полосатой тельняшкой.
— Слушайте судовую трансляцию! — бросил он на ходу, переставляя по линолеуму обутые в грубые кирзовые сапоги ноги с ленивой неторопливостью, словно боялся поскользнуться. — И быть по каютам! Приказ!
— Что-нибудь случилось? — насторожился Смолин.
— Тревога будет! — равнодушно, как о самом обычном, сообщил Диамиди. — Атомная!
— Что?!
— Атомная! — спокойно повторил подшкипер.
— Вы, должно быть, шутите? — усмехнулся Смолин, с любопытством оглядывая Диамиди.
— Почему тревога? — испуганно спросила Ирина. — Что-нибудь произошло?