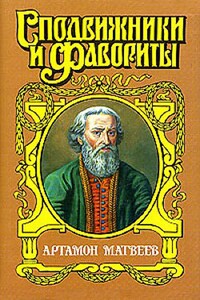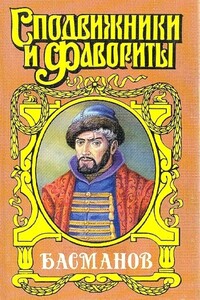Это откровение Плещеева перевернуло что-то в душе Александра Даниловича. Да, его можно было обвинить в чём угодно, и он это понимал. Да, он не был бескорыстным: получая от государя Петра Алексеевича много, желал большего. Хотел денег, поместий, власти — того, что удерживало его, безродного, среди всех этих надменных вельмож, гордящихся только тем, что Бог сподобил их родиться в раззолоченных палатах, а он появился на свет в захудалом доме царского слуги.
Но обвинить его в предательстве! Это было уже слишком! Это обвинение обожгло его обидой и было больнее всего.
С этого момента он стал воспринимать действительность и всё, что с ним происходило, как-то отрешённо, словно он присутствовал при каком-то странном затянувшемся действе, где он, будучи посторонним зрителем, не мог ни уйти сам, ни прервать это действо.
Он заметил жадный блеск в глазах Пырского при виде всех драгоценностей, вываленных на стол перед Плещеевым для подробной их описи, позлорадствовал в душе, что ничего из этого богатства никогда не достанется Пырскому. Плещеев велел Пырскому вернуть даже тот перстень, что подарил ему Меншиков в свой день рождения. Тот с неохотой сделал это.
Александр Данилович смотрел на всю эту сверкающую груду совершенно спокойно и был рад тому, что ни жена его, Дарья Михайловна, ни старшая дочь Мария, бывшая нареченная невеста молодого государя, не проронили ни единого слова. Дарья Михайловна не пролила ни одной слезинки, хотя Александр Данилович знал, что, оставаясь одна, она горько плакала. Он боялся этого больше всего.
К своему удивлению, среди драгоценностей дочери, принесённых ею Плещееву для описи, он не увидел дорогого кольца, подаренного ей когда-то первым её женихом, графом Петром Сапегой. Тут мысли князя приняли совсем другой оборот, и он с жалостью посмотрел на свою покорную, тихую, теперь такую бледную и худенькую дочь. И, может быть, впервые что-то вроде угрызений совести из-за погубленной судьбы дочери шевельнулось в его душе.
Думая о ходе событий, Александр Данилович понимал, что дело зашло далеко и о царской милости сейчас не могло быть и речи.
Окольными путями до него доходили слухи о том, что молодой государь, ведомый Иваном Долгоруким, пустился в разгул с неистовством неискушённой молодости и все государственные дела вершит теперь Верховный тайный совет, где всем заправляет Андрей Иванович Остерман — его бывший ставленник, его надёжная опора при молодом царе. Исходя из этого, ждать ему милости не приходилось ни от кого, тем более от Остермана, так долго ждавшего момента, когда поверженный Меншиков освободит ему место у ступеней царского трона.
Единственное, чего боялся Александр Данилович, так это ухудшения своего нынешнего состояния. Боялся не за себя, а за них — за жену и детей, безвинно страдающих по его вине, хотя она так и не была названа ни царём, ни Верховным тайным советом.
Опись вещей в семье светлейшего князя шла долго. В первый же день, когда среди принесённых Дарьей Михайловной её личных вещей Александр Данилович заметил отсутствие трёх очень дорогих складней, он решил выяснить, где же они, для чего вечером и направился в комнату жены.
Кроме Дарьи Михайловны, он застал в её комнате Катерину, комнатную девушку Дарьи Михайловны, очень ею любимую.
Обе они суетились возле широкой простой кровати Дарьи Михайловны, что-то заворачивая в тёмную шерстяную шаль. Увидев вошедшего Александра Даниловича, обе испугались, стараясь закрыть собой довольно большой свёрток.
— Что это вы делаете? — не строго, но и без привычной ласки в голосе при разговоре с женой спросил Александр Данилович.
— Да это мы, мы... — несколько раз повторила растерявшаяся Дарья Михайловна.
Не слушая её, Александр Данилович подошёл к постели и резким движением руки откинул шаль, закрывавшую какой-то предмет.
Перед ним лежали те самые дорогие складни, отсутствие которых так удивило его при описи.
— Что это вы задумали?
— Мы... Да мы ничего, — вновь невнятно проговорила Дарья Михайловна и замолчала.
— Дозвольте сказать, — прервала молчание Катерина. — Это я присоветовала Дарье Михайловне спрятать складни. Знаю ведь, как она их любит.