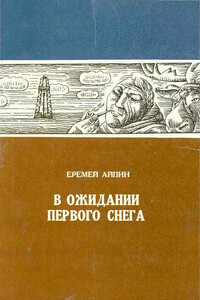Никого у Тимофея не осталось. Жену первую он и жалел и злился, вспоминая. «Из-за шмоток кончилась, дура, — говаривал Тимофей Мохову, смахивая с рук угольную крошку. — Побежала домой дерьмо спасать — тут ее и пригвоздило. Отрывши завалы, увидели ее люди лежавшей вперемешку с сумками, мешками да пакетами… Жалел ее, никого не надо было…»
И теперь его все больше мысль донимала: для чего жить? Нет-нет и поднимет бровь, будто этот вопрос не может никак решить для себя. «Для чего?» — поднимается вопросительным знаком его обгорелая черная бровь, обнажая на миг застывшие, без блеска, серые глаза.
И она, Зинка, стоит и ждет его каждый день, с работы встречает. А там, в порту, тонны угля, выхваченные из трюмов почерневших в войне пароходов, сыплются в его дерюжный мешок, наламывают за день тело. Он ни у кого не спрашивает, сколько груд надо перекачать на себе. Они текут, не кончаясь, от звонка до звонка. Сам черный, сливается он с лоснящимся месивом, пересыпающимся из трюма в его мешок, и он тащит, несет его беспрестанно и монотонно: один, другой… сотый. Несет уголь на полуторки. Ловко, размеренно переступая по мосткам, Тимофей напряженно прокручивает в голове мысль: как жить? Кто он такой есть теперь — без сыновей, без любимой женщины, без стариков?
Возвращаясь от полуторки к трюму, свободной рукой ощупывает он проколы на солдатской своей гимнастерке, вспоминает недавние жаркие события, после которых прибавлялось новых проколов, а под одеждой — новых ран, звучат в голове взрывы, рикошет пуль, после которых не встречал он многих однополчан… И снова встает в памяти лицо жены — идти становится тяжко, каждый шаг долбит болью в голову, и без того темное от сажи и пота его лицо чернеет.
Очередной мешок тяжестью придавливает плечи, но от того вроде и легче делается душе — без дум, без видений, он остается один на один лишь с тяжестью ноши. «Вжиг… вжиг… вжиг…» — трутся об асфальт кирзачи. Нужно смотреть под ноги… Вот кончается трап, под ногами гранит пирса… вот и борт полуторки… Тяжесть уходит с плеч, и снова наваливается, сдавливая тоскою сердце, тяжесть памяти; весь обратный путь к трюму неотступно следуют за ним его мысли, свербят душу видения войны. «Вжиг… вжиг… вжиг…» — бьются об асфальт сапоги.
Вечером встретит его Зинаида. Улыбнется, погладит Тимофея по голове, скажет что-то доброе, скажет, будто извиняясь перед ним.
А он очень есть хочет. Повалившись на стул, будет Тимофей большими глотками безвкусно пить пиво — не разберет он вкуса, только бровь нет-нет и попятится вверх. Она будет стоять, ждать, пока он сгложет все со стола. Она будет смотреть на него с жалостью и ознобом. «Кто же он-то такой?» — будет и она мучать себя. Но какое дело — кто. Полюбила. Похож он на первого, любимого. Она кормит, освободила его от столовой и сама готовит. Но сама лишь спаслась от одиночества. «Где-то ты витаешь, Тимоша, с мыслями своими?» — думает она растерянно. А он, во всегдашней робе своей, приходит и, глядя на нее запамятовшим взором, не замечает ее слез и тоски. Она все прощает, ждет — оживут глаза. Он потребует чистой простыни — аккуратно она застелет. Он переутомился, он разучился ласкать; пластом падает в жирной робе на постель и, не дожидаясь любви, растягивается и засыпает. Ей придется назавтра стирать. Неслышно будет она горько всхлипывать. Он уйдет на работу, не замечая ее, нешумную, любящую, над стиркой. Женщина… послевоенная, безмужняя. Ждет, все ждет она — пройдет озлоба, заволокется память прошлого…
Как-то, дело было весной, получил Тимофей большую зарплату и пришел домой веселый. Зинаида ожила, воспряла, заплакала с радости, засветилась лицом, веселые веснушки побежали крапушками в глазах ее, и выпрямилась вся, и похорошела. И он-то видит ее иначе — глаза зрячесть обрели, тепло сплывает из-под бровей, по-человечьи смотрит.
Она-то засуетилась! Чистые вещи из шкафа вызволила, ему свежие носки бросила. Наряжается поспешно, все на него глядючи — вдруг потускнеет лицо, сорвется из глаз долгожданная светлая радость. «Ох уж, не дайте бог, не дай-то бог! — твердит про себя. — Тим! — шепчет, задыхаясь, — готова я!»