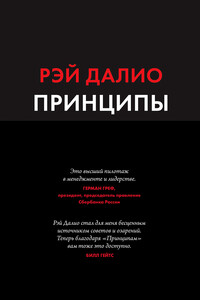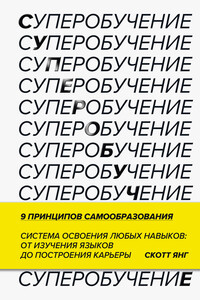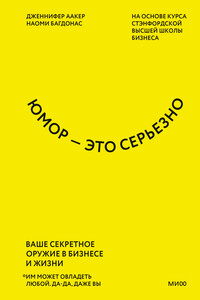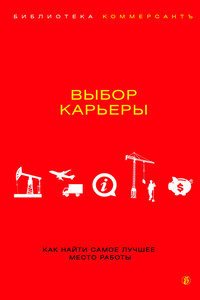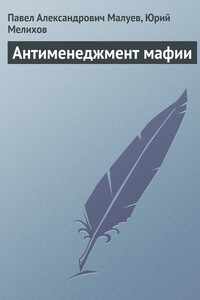Кроме того, у традиционных продуктов резервное копирование занимало много времени и существенно замедляло работу пользователей, а значит, довольно редко практиковалось на оконечных устройствах.
И последний штрих… Что такое «у традиционных продуктов»? У продуктов, которые традиционно применялись раньше, пока не появились новые решения, как раз описанные в этой листовке. Ключевое слово здесь – «раньше». Оно вполне отражает нужный нам смысл. Итого:
Кроме того, раньше резервное копирование занимало много времени, существенно замедляло работу пользователей и, как следствие, довольно редко практиковалось на оконечных устройствах.
Как говорится, почувствуйте разницу, if any.
50. Перевод как командный вид спорта
Попробуйте по-русски рассказать анекдот аудитории, не знающей русского языка. А как насчет лекции для убежденных коммунистов про развитие демократического общества в постсоветской России? Затея так себе. В лучшем случае непонимание, в худшем – скандал, а то еще и поколотят. На самом деле идейные установки и принципы обнаруживаются практически в любой профессии, в том числе и в переводческом ремесле.
Если чье-то переводческое кредо ограничивается «правилом сковородки», то есть переводом слов, а не смысла, и на все претензии следует ответ, мол, переведено так, как написано в оригинале, то с этим человеком мы вряд ли сработаемся.
И наоборот: нет смысла брать в команду того, кто забывает об исходном тексте в угоду своим фантазиям и на любые вопросы об отсебятине заявляет, мол, я художник, я так вижу.
Мне повезло работать среди единомышленников: коллеги и я сосуществуем в одной системе координат, в одной системе ценностей и критериев качественной работы. Тот буквально телепатический уровень взаимопонимания, который возникает между нами, и та синхронность осознания того, что красиво, а что нет, превращают команду переводчиков в единое целое, которое гораздо сильнее каждой своей части в отдельности. И конечно, без этого командного духа и постоянных дискуссий о том, каким должен быть перевод, я бы никогда не написал ту книгу, которую вы сейчас читаете.
Так, пару лет назад довелось нам с коллегой переводить текст про технологию распознавания лиц. Дескать, завсегдатай одной сети кофеен случайно оказался в другой части города, заходит в кафе этой сети и говорит: «Мне как обычно». Система, распознав постоянного клиента, точнее его лицо, сразу оформляет заказ, хотя конкретно в этой локации он впервые. После чего следовала вот такая фраза:
Распознавание лиц способствует формированию индивидуального подхода.
Коллега переводит так:
Face recognition contributes to a personal approach.
Меня, как редактора, смущает approach, и я даже толком не могу сформулировать почему. Может быть, потому что это официальное выражение и нет в нем теплоты и уюта любимой кофейни. В итоге я меняю approach на attitude, хотя сейчас, через два года, понимаю, что в данном случае attitude скорее будет исходить от самого человека, а не проявляться в отношении него. И после замены approach на attitude между нами происходит такой диалог:
– Approach не то, не могу аргументировать, но не пойдет.
– Согласна, но и attitude тоже не очень. Не могу аргументировать.
– Да, согласен. Надо придумывать что-то еще. Что такое индивидуальный подход вообще?
– Наверно, это когда внимание обращено именно на человека и только на него, как при рукопожатии.
– Да, пожалуй. Эдакое личное касание…
– Точно.
– Тогда, может, так и напишем? Personal touch?
– Да, отлично! Мне нравится.
Face recognition contributes to a personal touch.
Когда работаешь с коллегами на одной волне, часто переводческая проблема решается на уровне ощущений, потому что аргументы лежат в подсознании у обоих и никак не артикулируются, а собеседник тем не менее понимает, что ты имеешь в виду, – синергетический эффект ни больше ни меньше.