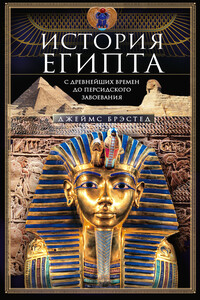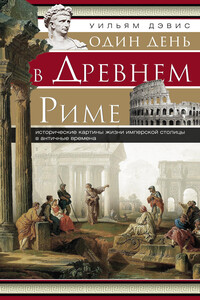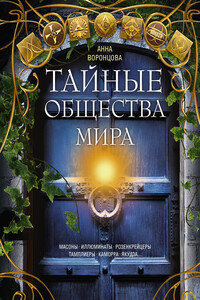Уже на раннем этапе умы греков стали занимать проблемы, связанные с логикой. Парменид из Элеи, что в Италии, в начале V в. до н. э. отрицал возможность перемен и движения, которые, несмотря ни на что, являются видимостью, в то время как знаменитые парадоксы его земляка и соратника Зенона в основном касались бесконечной делимости пространства, вызвали активное движение мысли, но заставили ее развиваться в специфическом направлении. Так, Анаксагор из Клазомен, что в Ионии, проведший большую часть своей жизни в Афинах и являвшийся другом Перикла, разработал сложную многосоставную систему, созданную, чтобы обеспечить возможность перехода одной субстанции в другую. Согласно его учению, во всех вещах присутствуют всевозможные элементы, или «семена», и характерные особенности каждой из них придает преобладающий элемент, но смесь может разниться, из-за чего происходят перемены. Более простой ответ на этот вопрос дали сторонники атомизма, первыми из которых во второй половине V в. до н. э. были Левкипп и Демокрит из Абдеры, что на фракийском побережье. Предположение о существовании мельчайшей частицы привело к возникновению логических парадоксов. Особенности стихии обусловлены формой и расположением атомов, слишком маленьких для того, чтобы мы могли их увидеть; чтобы в какой-то вещи произошли изменения, необходимо переставить атомы, из которых она состоит. Эти рассуждения оставались сугубо теоретическими. Они представляли собой попытки найти логическую схему, которая объясняла бы, почему мир таков, каким мы его видим. Судить о них следовало только исходя из их правдоподобности, не проводя экспериментов, способных помочь проверить правильность данных гипотез на практике. Другим примером стал вопрос о том, имеется ли теоретическая возможность существования вакуума, который занимал важное место в развернувшейся позднее дискуссии о природе вселенной. Вопросы о материи и устройстве мира поднимаются и в наше время, причем в менее доступной для понимания форме, но их обсуждение не препятствует проведению экспериментов.
Дело не в том, что греки полностью отказались от эмпирического подхода. Примечательно, что в медицинской школе, основанной Гиппократом с острова Кос в V в. до н. э., изо всех сил подчеркивали важность наблюдений. До нашего времени сохранились некоторые из составленных ими «медицинских справочников», в которых тщательно записывались симптомы большого числа пациентов. По мнению самого Гиппократа, это способствовало развитию медицинской науки в большей степени, чем непродуманные теории. Но не только врачи стремились к прогрессу, основываясь на знаниях, полученных эмпирическим путем. По крайней мере вначале имела место определенная готовность к практической демонстрации. К примеру, как Эмпедокл, так и Анаксагор были готовы к тому, чтобы доказать, что воздух является твердой субстанцией. Несмотря на это, то, что греки не проводили регулярных экспериментов в искусственно созданных лабораторных условиях, остается фактом, а ведь это единственный способ, с помощью которого можно было проверить их физические теории или серьезно заняться химической наукой. В целом они ограничивались наблюдением за теми природными явлениями, которые можно с легкостью наблюдать. Что касается достигнутого ими прогресса в астрономии, то они выяснили, что небо представляет собой своего рода природную лабораторию, в которой можно неопределенное количество раз наблюдать за повторяющимися явлениями. Мысль об использовании искусственных средств, чтобы обособить тот или иной феномен, или о проведении повторяющихся экспериментов появлялась у них в зачаточной форме или не возникала вовсе, и их догадки были связаны с качеством, а не с точным количеством.
Большая часть достижений была сделана до конца III в. до н. э. Древнегреческая наука завяла из-за недостаточного полива – нехватки практического применения, и, хотя математика могла легко развиваться в изоляции, даже эта область научного знания постепенно перестала занимать умы греков. Определенную роль в этом сыграли сложности, связанные с отсутствием точной системы записи, но более общими и важными причинами стали догматизм, свойственный последовавшей за этим эпохе эллинизма, и тенденция к усердной критике предшественников. Если в этом и есть какая-то проблема, то она состоит в том, почему греки эпохи классики не сумели заложить более прочную основу. Наиболее широко распространенным является социальное объяснение данного явления – образованные люди, использовавшие свое свободное время для подобных рассуждений, не хотели пачкать руки проведением экспериментов. Это не совсем так. Древнегреческие ремесленники могли предоставить все необходимое, и у мыслителей были опытные рабы, способные играть роль лаборантов. Конечно, Аристотель не марал руки и сам не принимал участие в препарированиях животных, проводившихся в его школе. Каким-то образом корни этой проблемы уходят гораздо глубже в прошлое, ибо упорное стремление ко все большему обобщению проявилось, как только греки стали думать об этом. Это характерно не только для науки, но и для поэзии и истории. Возможно, максимум, что мы можем сказать, заключается в следующем: греки с легкостью могли поддаться возбуждению, охватившему их благодаря этим первым исследованиям, и довольно легковесные общие объяснения в некотором смысле создали устойчивую привычку. Конечно, определенную роль в этом сыграли мысли о том, что связанные с практикой подробности не достойны внимания полностью свободных людей.