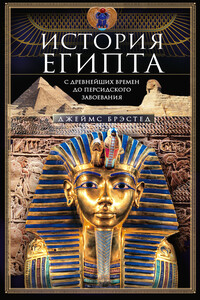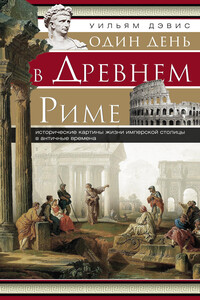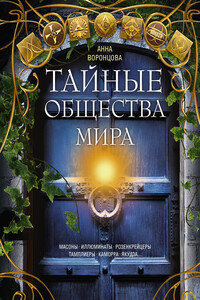Если в этой сфере открытие Фалеса было обусловлено удачей и письменными свидетельствами, созданными другими народами, то совершенно иначе дела обстояли с его догадкой о том, что вода является первичной субстанцией, из которой состоит весь мир. Мифологические объяснения происхождения мира и того, каким образом он обрел свой нынешний вид, были распространены довольно широко, но их понимание ограничивалось жесткой терминологией мифа, а действующей силой считалось божественное существо, волю которого те, для кого создавался миф, считали достаточным объяснением. Милетские «физики», первым из которых стал Фалес, вместо этого выдвигали другое объяснение. Оно основывалось на явлении, которое можно назвать научной интуицией, – предпринималась попытка связать множество феноменов с одним простым принципом. Вера этих людей в то, что лежащая в основе всего первоначальная субстанция осталась неизменной, несмотря на все явные перемены, в некотором смысле до сих пор сохраняет свою актуальность в виде законов сохранения материи и энергии. Это был впечатляющий скачок вперед, значимость которого заключается в том, что данный вопрос был задан в принципе, а не в качестве самого ответа. Анаксимандр, также происходивший из Милета, полагал, что само по себе изначальное вещество невозможно определить и оно не обладает какими-либо особыми качествами. Это был еще один важный скачок вперед. Но доминировала в те времена сформулированная в той или иной форме теория о четырех элементах, впервые высказанная
Эмпедоклом из Акраганта, что на Сицилии, жившим в V в. до н. э. Этими элементами были огонь, воздух, земля и вода, и считалось, что из них состоит все остальное, а все различия обусловлены разными пропорциями элементов в составе того или иного предмета.
Другим вопросом, всегда будоражившим умы мифотворцев, было место, занимаемое Землей во вселенной. Ионийцы приложили руку к поиску ответа и на него. Фалес предположил, что Земля плавает в воде, отчего, возможно, и происходят землетрясения. Анаксимандр более резко обошелся с общепринятыми представлениями, заявив, будто Земля представляет собой цилиндр, диаметр основания которого в три раза превышает высоту, ни на что не опирается и у нее нет причин для того, чтобы двигаться в том или ином направлении. Он также впервые высказал мнение о вращательном движении, подобном тому, которое совершает в жидкости водоворот, чтобы объяснить дифференциацию элементов внутри его неопределимой первоначальной субстанции, а значит, и происхождение мира в том виде, в котором он нам знаком. Четыре стихии Эмпедокла двигались под влиянием любви и ненависти (в рамках своей более сложной концепции Анаксагор считал движущей силой этих элементов «разум»). Для обоих мыслителей эти стихии были материальными, но хотя они в некотором роде приблизились к знанию о физических силах, дальнейшего развития эта концепция не получила. Число механистических гипотез о природе небесных тел увеличивалось, что, очевидно, порождало опасения сторонников традиционной религии. Типичной гипотезой, вызывавшей беспокойство простых людей, является предположение Анаксагора о том, что солнце представляет собой пылающий камень, по своим размерам превышающий Пелопоннес. В «Облаках» Аристофана Сократу несправедливо приписываются подобные астрономические взгляды и желание видеть в качестве верховного божества не Зевса, а Вихрь.
Все это образует дикую смесь, приводящую неподготовленного читателя в недоумение. Идеи, которые мы можем назвать научными, соседствовали с методами, совсем не похожими на принятые в современной науке. Первые мыслители были вынуждены разрабатывать собственную терминологию, что, однако, не является для нас серьезным препятствием. Когда Анаксимандр говорил, что элементы в его системе «поочередно вершат справедливость и получают друг от друга воздаяние за совершенную ими несправедливость», а Гераклит Эфесский в своем непонятном пассаже – о том, что «огонь превращается во все вещи, и все вещи превращаются в огонь, подобно тому как золото превращается в товары, а товары – в золото», социальная или экономическая метафора не мешает пониманию. В принципе любовь и ненависть Эмпедокла не менее научны, чем притяжение и отталкивание. Религиозные взгляды некоторых мыслителей также не представляют сложности. Эмпедокл был поэтом и чудаковатым пророком, а Пифагор – мистиком, последователи которого по уши втянулись в южноитальянскую политику, но это не значит, будто их преемники не могли основываться на достигнутых ими результатах. Проблему скорее представляла форма, которую принимала деятельность этих последователей.