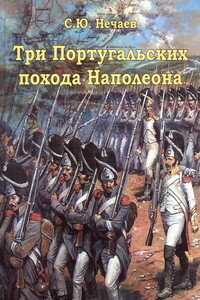Суржиков растерянно взглянул на Сергея, потом на Чуркина.
— А ведь заворачивать-то — нечего…
— Как? — опешил Чуркин. — Неужто все свертели?
— Выходит — свертели…
— Стыд-то какой… Командира подчистую голодным оставили. Вот так постарались… Видала, как мы умеем? — бросил Жене сконфуженно. — Ай-я-яй, людям сказать — с ног до макушки осмеют. Ты что же, рыжий блондин, до семи считать не могешь?
— Не знаю, как вышло, — пожал Суржиков плечами.
— Ай-я-яй, про командира забыли… Знатно!.. — Чуркин вскочил, охая и вздыхая, сполоснул чаем котелок, зашагал к кухне.
6
На позиции там и сям горбились холмики земли. Четыре, по квадрату, — окопы для орудий; в стороне, на север, — командный пункт, окопы прибора и дальномера; на отшибе — землянка-кухня.
До нее оставалось шагов полсотни, когда Чуркин, подняв голову, замер вдруг. Впереди, удаляясь наискосок, от бочки с водой к прикухонному навесу шла женщина с полными ведрами. Шла, чуть запрокинув светлую голову, плавно покачивая бедрами, такая вся знакомая, что у Чуркина дыхание занялось от радостно-тревожного предчувствия: нет, не пропала навеки его Анюта в тот страшный первый день войны. Детей схоронила да и скрылась в белый свет, чтоб никогда не встретиться с мужем, никогда не увидеть в глазах его неумолимого укора. А судьба-то опять свела невзначай… Да и зачем было прятаться? Ему ль не понять ее материнского горя, он ли не знает, сколько душ людских исковеркала, сколько сердец разорвала война?
— Аня! Анюта!
Остановилась враз, будто пригвоздил ее к земле, знакомо плечом повела, обернулась:
— Уже сивой, а тоже Анютами бредишь. Эх вы, мужичье…
И обличьем круглолица, и глазами смахивает, а ведь не она.
— Извиняй, девка, ошибся я. Больно уж ты на мою жену похожа.
Горбясь, повернулся и пошел прочь.
— Ко мне-то небось за делом приходил?
— Ах, да… Ребята, понимаешь, бестолково разделили…
— Ну так вернись, помогу тебе, горемычному, нерасторопному… — В лучистых глазах поварихи заплясали озорные бесенята. — А ты тем времем приглядись, может, я и не уступлю твоей Анютке.
— На смотрины время нужно, а у солдата его — кот наплакал. Сыпь кашу-то…
Она засмеялась, ленивой поступью, намеренно вся напоказ, отошла к столу.
— Анютку-то ай потерял? Или сама сбежала?
— Не из той песни, девка. Убили ее… — глухо сказал Чуркин и, не взглянув больше на повариху, ушел.
1
Вернувшись со старшиной из тылов дивизиона, Бондаревич зашел в палатку лейтенанта Тюрина. Командир взвода читал на сон грядущий.
— Бондаревич? Хорошо, что зашли. Завтра до обеда землянки закончить. Готовность к открытию огня — четырнадцать ноль-ноль. Работу начать с рассветом.
— Есть.
— Люди у вас в расчете, по-моему, подобрались дельные. Один Чуркин чего стоит! А дивчина? Огонь! «Направьте в четвертый» — и никаких гвоздей.
— И девушки на орудиях будут?
— По одной. Третьими номерами. Вы уж, пожалуйста, поделикатней, не нагружайте чрезмерно. Вашей девушкой я очарован. В четвертый расчет — и баста. Как думаете, Бондаревич, что бы это значило?
Бондаревич пожал плечами.
— А я догадываюсь. Кто-то из ваших приглянулся ей. Смотрите, командир, за всякие шуры-муры кре-е-епко буду бить, и прежде всего — вас. Глядеть в оба… Чаю не хотите? Ну тогда — отдыхать.
На самом краю неба скромно лепился беловатый серп молодого месяца, звезды светили неярко. Было душно, пахло мокрой полынью — терпковато и мягко.
Бондаревич шел по огневой между орудийными окопами, еще не законченными, и едва миновал палатку девушек, донеслось знакомое:
— Стась!
Вздрогнул и остановился, не оглядываясь. Галлюцинация слуха, что ли? Так нежно даже мать не звала его.
— Стась!..
В двух шагах стояла Женя. Он слышал ее взволнованное дыхание, различал знакомый овал лица, видел протянутые к нему руки:
— Здравствуй, Стась!..
Он сделал шаг и…
Сколько раз он держал эти руки в своих… Как недавно это было и как все-таки давно. Год войны — вечность, и целый год эти руки ласкали другого.
— Здравствуй.
— Так неожиданно все вышло… — Руки ее упали. — Я ведь узнала, что ты здесь, когда вы со старшиной уже уехали. Узнала и не поверила. Думалось, не дождусь…

![Мы снова уходим в бой… [Рассказы писателей Вьетнама]](/uploads/books/images/5a/5a62a203b13a98ebd37930a1d000a24a3faf28f3.jpg)