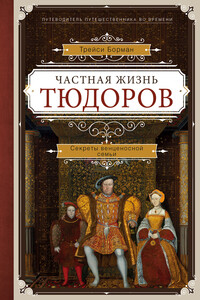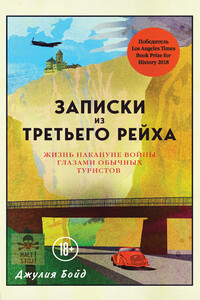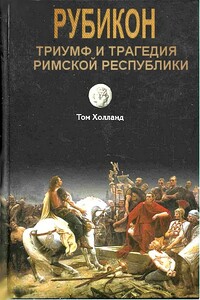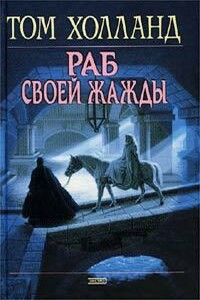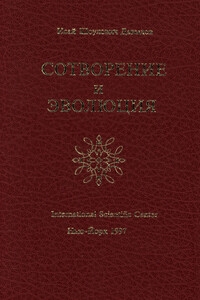Именно поэтому нацисты, эти идеи отрицавшие, воспринимаются сегодня как самое страшное зло. Возможно, диктаторы-коммунисты убили не меньше людей, чем диктаторы-фашисты. Но в основе коммунистической идеологии лежит внимание к угнетённым народным массам – и поэтому коммунисты так не демонизируются. Массовые убийства, совершённые расистами, ужасают нас гораздо больше, чем массовые убийства, совершённые теми, кто стремился создать бесклассовый рай на земле, – и это свидетельствует о том, насколько христианским осталось наше общество. Либералы не верят в ад, но в зло они по-прежнему верят. Тень этого зла не меньше, чем та, которая лежала на временах Григория Великого. Он жил, страшась Сатаны, а мы боимся наследия Гитлера. Мы с готовностью используем слово «фашист» как ругательство, поскольку представляем себе, какой ужас нас ждёт, если в какой-то момент оно перестанет быть ругательным. Но если источник секулярного гуманизма – не разум и не наука, если он появился в результате своеобразной эволюции христианства и если в Европе и в Америке всё больше становится тех, кто считает, что Бог в ходе этой эволюции умер, неужели гуманистические ценности – всего лишь тень трупа? Неужели в основании морали лежит миф?
Но миф – это не ложь. В мифах – как не раз признавал Толкин, этот набожный католик, – может скрываться глубокая истина. Быть христианином – значит верить, что Бог стал человеком и что Он умер самой страшной смертью, которая когда-либо выпадала на долю смертного. Именно поэтому крест, древнее орудие казни, по-прежнему остаётся символом христианской революции – символом, который ей, безусловно, подходит. Дерзость этого символа, дерзость тех, кто обнаружил в изуродованном, униженном теле славу создателя Вселенной, лучше, чем что-либо иное, объясняет поразительную странность христианства и цивилизации, которую оно породило. И сила этой странности по-прежнему жива. О ней свидетельствует волна крещений, прокатившаяся за минувший век по Африке и Азии; вера многих миллионов людей в то, что Святой Дух, словно живой огонь, по-прежнему сияет над миром; и убеждения миллионов жителей Европы и Северной Америки, которые никогда бы не подумали причислять себя к христианам. Все они – наследники одной и той же революции: революции, расплавленное сердце которой – образ Бога, умершего на кресте.
Сам я, безусловно, должен был осознать это гораздо раньше. Вышло так, что до меня это по-настоящему дошло уже после того, как я начал работать над этой книгой. Дело было в Ираке, куда я приехал, чтобы участвовать в съёмках фильма. Город Синджар находился тогда в непосредственной близости от территории, занятой «Исламским государством». Его удалось вырвать из рук террористов всего за несколько недель до моего приезда. В 2014 г., когда боевики захватили и оккупировали Синджар, в нём проживало множество езидов – представителей религиозного меньшинства, которых «Исламское государство» объявило адептами дьявола. Езидов постигла точно такая же страшная судьба, как и тех, кто когда-то противостоял римлянам. Мужчин террористы распяли, а женщин поработили. Стоя на руинах Синджара, зная, что всего три километра открытого пространства отделяют меня от людей, которые совершили такое зверство, я понял, почему в древности завоеватели метили захваченную территорию зловонием трупов, гниющих на жаре. Распятие было не просто наказанием, оно было символом господства – господства, страх перед которым угнетённые ощущали нутром. Мерилом силы был ужас, который она внушала. Так было всегда. Так будет всегда. Таков мир.
Но христиане вот уже две тысячи лет спорят с этим утверждением. Многие из них за это время сами стали внушать людям ужас. Они омрачали жизнь слабых, они заставляли других страдать, они преследовали и порабощали. И всё же мера, которой мы это меряем, при помощи которой мы судим и осуждаем их, – это христианская мера; и даже если церкви на Западе будут и дальше пустеть, этот стандарт в ближайшее время не поменяется. «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» [1053]