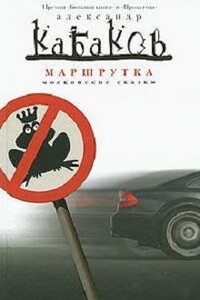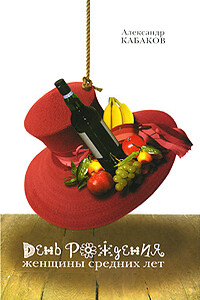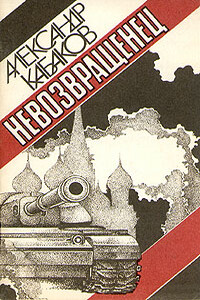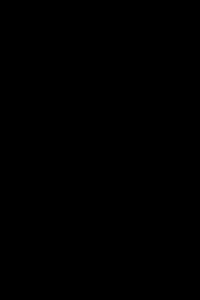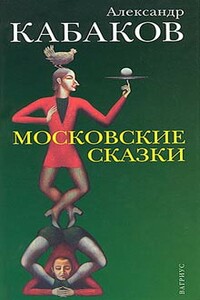Тем не менее дописывать историю Юрия Матвеевича совершенно не хотелось. Ну, допустим, изображу я ту желтоволосую во всей ее жизненной неистребимости и связанной именно с жизнеспособностью прелести; ну, предположим, и отношения их, почти противоестественные, опишу точно и с пониманием, а кульминационную сцену, экшн с бандитами, ворвавшимися в квартиру в то время, как герой одышливо спускался по второй лестнице, а слуга его спешил следом, оглядываясь на покинутое жилье и сжимая бесполезное в темноте оружие, – захватывающе: проверено, это я умею... И что же из этого последует? А ничего, ноль. Кончилось все это. Никому это не нужно, читатели хотят одного, издатели другого, критики третьего, но никто не хочет того, что единственно умею делать я: этого дурацкого сочетания бесконечных подробностей быта, застревающих в глазу, как черная городская пыль, с боевиком в духе средней руки американского кино, которое всем осточертело, тошнит от видео...
И тут же, продолжая рассуждать таким образом, снова ловлю себя: да ведь это безумие мое работает, его пропаганда!
Словом, запутался и знаю одно – писать не хочу и даже не могу.
А что же могу? Пить, бесконечных приключений искать, которые рано или поздно кончатся чем положено. Уже ведь было, легко отделался, хотя изуродованный ходил с месяц. В следующий раз или девки ночные кого следует наведут, или сам подохну с перепоя – и все.
Нет, писать надо, одно спасение, хотя бы и без практического или литературного смысла, а просто ради выживания, с психотерапевтической целью.
И тут же замечаю, что ведь я, собственно, и сейчас пишу! Разве все это, и насчет бессмысленности писания, и насчет безумия неписания, не мною только что написано? Да вот же они, строчки.
Однако и это рассуждение, стоило задуматься, показалось мне полностью сумасшедшим, я сбился окончательно...
И вот один момент этих размышлений идиота пришелся на такой момент жизни, вполне, впрочем, обычный: я сидел в очередном заведении, которых в городе стало несчетно и становилось все больше. Заведение называлось «кафе-бар» и представляло собой зауряднейшее место своего времени: дешевые, откуда-нибудь из Восточной Европы, ресторанная мебель и стойка, довольно полный международный выбор напитков, совершенно советского вида тетка за стойкой и странные официантки – не то учительницы бывшие, не то мелкие чиновницы из накрывшихся главков, вежливые, но непрофессионально, по-домашнему. Посетителей, опять же по причине обилия нового общепита, мало: приезжая пара с пластиковыми пакетами, трое охранников в форме из соседнего банка, плотно перекусывающих с «Фантой», да один такой же, как я, одинокий пьяница с небольшими, видно, но деньгами пил «Смирновъ» под грибочки.
Я же взял, как обычно, виски, утвердительно ответив златозубой за стойкой на два вопроса: «рэд лэйбола?» и «сто?», закурил без охоты, вяло и сбивчиво думая о том, о чем уже сказано...
И не заметил, как она вошла, подождала у стойки – обнаружил, только когда села напротив меня, с кофе и маленькой рюмкой, видимо, коньяку, глазами спросив, не занято ли.
Внешности она была самой что ни на есть милой, то есть такой, которую описать крайне трудно, поскольку ничего не то что особенного нет, но даже просто примечательного, а в то же время глаз ничто не царапает и даже наоборот – к какой детальке ни присмотришься, каждая радует. Такая красота – как действительно хорошая, английская, к примеру, одежда: незаметна, потому никогда не раздражает и не надоедает, и чем сильнее поношена, тем элегантней и дороже тому, кто к ней привык.
Вот и севшая напротив меня женщина, никак не менее тридцати пяти лет от роду, была, если присмотреться, очень хороша именно так, что хотя и возраст виден со всеми морщинками, легкими обвислостями и общим выражением, и яркого ничего нет, включая какую-либо косметику, кроме желтоватой помады, и причесана никак, просто пострижена «под горшок» – а решительно прелесть.
Все эти впечатления и соображения, конечно, отразились на моем лице, тем более что я их и не скрывал, а, наоборот, привычно продемонстрировал, почти автоматически.