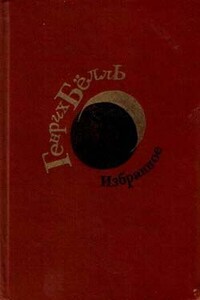«Я ищу двух толковых парней», – сказал он нам. Мы промолчали. «Двух толковых парней, ясно?» – повторил он. «Мы бестолковые», – сказал Рай. «Ты, как я вижу, толковый», – рассмеялся Гезелер. «А ведь мы с вами на брудершафт не пили», – ответил Рай.
Альберт умолк. Ему казалось, что он ложкой черпает смерть из котелка. К чему? К чему все это вновь рассказывать? Ведь надо же было этакому случиться, опять невесть откуда вынырнул человек по фамилии Гезелер, к которому Брезгот приревновал Неллу.
– Этот ответ, – через силу продолжал он, – решил судьбу Рая. Гезелер послал нас в разведку. На такое дело мы абсолютно не годились. Все это понимали. Наш фельдфебель, который хорошо знал нас, пытался отговорить Гезелера, и даже капитан, наш ротный, вмешался и попытался доказать ему, что вряд ли нам удастся такая рискованная вылазка. Село словно вымерло, и никто не знал, есть ли там русские. Все наперебой старались переубедить Гезелера, но он никого не слушал и только кричал: «Я спрашиваю вас, выполняются ли здесь приказы офицера или нет?» Ротный уже и сам не знал, как выпутаться из этой истории.
Альберт устал, ему не хотелось вспоминать все подробности.
– Капитан, видишь ли, сам побаивался Гезелера и стал уговаривать нас. Он сказал, что, если Гезелер доложит обо всем в штаб батальона, нас за невыполнение приказа наверняка поставят к стенке, а если мы все-таки пойдем в разведку, то, может быть, все еще обойдется. И мы поддались на уговоры – это и было самое ужасное. Мы не должны были уступать, но все же уступили. Все оказались вдруг милейшими людьми – надавали нам кучу дельных советов; все – и унтера и солдаты. И, пожалуй, впервые мы почувствовали, что все не так уж плохо к нам относятся. В этом-то и был весь ужас: все обхаживали нас, и мы уступили и пошли в разведку. А через полчаса больше половины роты было убито или угодило в плен. Эта проклятая Калиновка была битком набита русскими, и нам пришлось драпать кто во что горазд. И нашел же я время дать Гезелеру по морде! Потом это показалось мне нелепым – как будто можно пощечиной отомстить за смерть Рая. Она мне дорого обошлась, эта пощечина, – я полгода просидел в военной тюрьме. Понял теперь, как все это случилось?
– Да, понял, – сказал Брезгот. – Это очень на него похоже.
– Не должны мы были поддаваться, – сказал Альберт. – До сих пор простить себе не могу. Ты пойми, – ведь это была личная ненависть, не имевшая ни малейшего отношения к войне. Он возненавидел Рая сразу же, как только услышал слова: «Ведь мы на брудершафт с вами не пили». А Рай, в свою очередь, терпеть его не мог.
– Ты знаешь, – Альберт слегка оживился, – у нас с Раймундом на фронте так уж повелось – всех новых командиров мы классифицировали с предельной точностью. Делал это, собственно, Рай. Вот какую характеристику он дал Гезелеру: «С отличием окончил гимназию. Ревностный католик. Собирался изучать право, кроме того, считает себя знатоком искусства. Переписывается с политиканствующими монахами. Болезненно честолюбив».
– Вот это да! – воскликнул Брезгот. – Знаешь, я чувствую, что время от времени стоит читать стихи. Характеристика исчерпывающая, поверь мне. Это может быть только он! Никакой фотографии нам не нужно.
– Да, пожалуй, не нужно, а стихи Рая тебе и впрямь не мешало бы прочитать. Он надеялся уцелеть и уступил именно потому, что хотел жить. Ему тяжко было умирать, ведь он уступил такому человеку, как Гезелер… Повсюду валялись жестянки из-под мармелада с его рифмованной рекламой… Нацистские газеты расхваливали его.
– Постой, какие жестянки, при чем тут нацистские газеты?
– В тысяча девятьсот тридцать пятом году имя Рая стало приобретать популярность в Германии. У него нашлось множество покровителей: ведь покровительствовать Раю было совершенно безопасно. В своих стихах он избегал прямо говорить о политике, но тот, кто умел их читать, догадывался, о чем идет в них речь. Рая «открыл» Шурбигель, и нацисты сразу почуяли, что его стихи для них лакомый кусок. Они ведь были так непохожи на дурно пахнущие вирши их писак. Стихи Рая можно было сделать ходким товаром и доказать таким образом собственную широту взглядов. Рай попал в ужасное положение: нацисты похваливали его. Он перестал публиковать свои стихи, да и писать почти бросил. Вскоре он поступил на фабрику к своему тестю. В полном одиночестве чертил диаграммы, отражавшие, какие сорта мармелада потребляются в определенных местностях, кто их потребляет и в каком количестве. Он с головой ушел в эту работу, изучая статистику потребления. Данные, поступавшие из отдела сбыта, он отражал в диаграммах, пользуясь при этом всеми оттенками красного. Когда проходил очередной партейтаг в Нюрнберге или еще какое-нибудь нацистское сборище, у Рая не хватало кармина. Когда я вернулся из Англии, мы стали работать вместе – рисовали плакаты и объявления, сочиняли рекламные стишки и лозунги. Их штамповали на жестянках с мармеладом, и мы потом во время войны то и дело натыкались на них. А Рай поневоле становился знаменитостью, – они повсюду разыскивали его стихи и издавали их, хотя он и писал им, что не желает этого. Рай был вне себя. Он прямо с ума сходил.