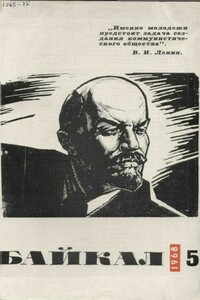Шаньюй, весьма круто взявшийся за это дело, постепенно утратил к нему интерес и вскоре ускакал к яньчжи. Государственный судья, выслушивая ответы обвиняемых, удовлетворенно кивал лысой головой, и чем больше горячился Гийюй, тем становился холоднее. И вдруг произошло не совсем понятное для Сотэ. Гийюй почему-то успокоился, сделался задумчив и — что совсем сбило государственного судью с толку — стал поглядывать и на него и на подозреваемых с тонкой ухмылкой. Теперь уже загорячился Сотэ, раза два сорвался на крик, после чего скомкал дознание и, заметно встревоженный, покинул шаньюеву юрту.
На своих нукеров Гийюй нагнал такого страху, что они, взяв его юрту в частое оцепление, готовы были рубить мечами всякого, кто проходил мимо.
Бальгур же тем временем спокойно сидел в своей юрте и, посмеиваясь, пил кумыс. Он был доволен — все получилось как нельзя лучше: государственный судья теперь трижды подумает, прежде чем что-либо затевать, а беспечный Гийюй впредь будет осторожнее.
В ставке много говорили об этом случае. Слухи, обрастая невероятными подробностями, покатились по ближним и дальним кочевьям. Но скоро новое и действительно поразительное событие заставило забыть о неудавшемся покушении на западного чжуки.
Ветреным хмурым днем — с момента совершения поиска на юэчжей к этому времени прошло уже более десяти дней — с юго-западной стороны в ставку въехал оборванный долговязый юноша лет семнадцати с худым измученным лицом и грязно-серыми от седины волосами. Праздные зеваки, шатавшиеся меж юртами, обратили внимание на его коня — великолепного, хоть и сильно отощавшего вороного аргамака, в котором опытный глаз угадывал одного из тех легендарных „небесных“ коней, что потеют кровавым потом.
Долговязый юноша шагом подъехал к юрте шаньюя, где с раннего утра шел Совет, и, минуя нукеров, беспрепятственно — что совершенно поразило зевак — вошел внутрь.
Тумань, говоривший в этот момент об уплате дани дунху, недовольно обратил взгляд на вошедшего и замер с раскрытым ртом. Вслед за шаньюем оцепенение охватило князей. Изумленное молчание было нарушено громовым голосом западного чжуки.
— Это же Модэ! — вскакивая, закричал Гийюй.
И точно, у входа, устремив на отца сумрачные неподвижные глаза, стоял считавшийся безвозвратно погибшим Модэ, бывший восточный чжуки и наследник.
Недолгая растерянность шаньюя сменилась лихорадочной деятельностью. Ставка засуетилась, как растревоженный муравейник. Сломя голову скакали верховые. Запылали костры. Резали скот. Празднично одетые люди раскатывали на траве кошмы и уставляли их напитками и всевозможной едой. Через время, меньшее, чем требуется для того, чтобы разделать барана, Совет князей в полном составе уже сидел на белых войлочных коврах и, вознося хвалу духам предков, дружно осушал чаши.
Модэ занимал свое старое место — справа от отца, и если бы не жесткий пристальный взор его и не поразительная в таком возрасте седина, то могло показаться, что не было более чем годового заложничества у юэчжей и что он был и остается наследником, любимым сыном отца.
— Я знал, что мой сын вернется! — торжествующе кричал Тумань, лицо его сияло, но в глазах временами проступала какая-то растерянность. — Модэ совершил подвиг, достойный зрелого воина! Он сумел похитить коня, принадлежащего самому вождю юэчжей, и бритоголовые не смогли его догнать. Пусть приведут сюда аргамака! — распорядился он. — Вы сейчас увидите, что это настоящее сокровище!
— Модэ не по годам умен, — вполголоса заметил Бальгур сидящему рядом Гийюю. — Я думаю, он сказал отцу неправду о своем побеге. Наверно, все было иначе.
— Почему ты так думаешь, князь Бальгур? — столь же тихо спросил чжуки.
— Видишь, он притворяется, будто ничего не знает о нападении на юэчжей. И правильно делает. Да, он умен и расчетлив!
Нукеры привели коня. Высокий, сухой, с мускулистой грудью и удлиненными бабками, с маленькой точеной головой, чем-то напоминающей змеиную, он сразу привлек внимание князей. Они окружили его, обмениваясь восхищенными замечаниями.
— Это большая редкость, — с кислой улыбкой говорил Туманю Сотэ. — Циньцы называют их „тысячелийными конями“